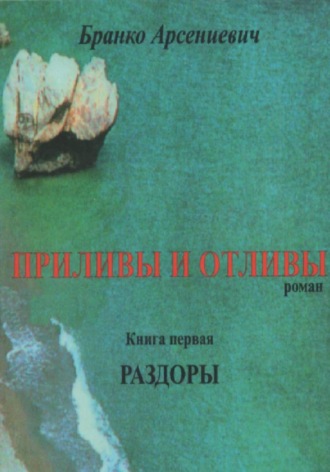
Полная версия
Приливы и отливы. Книга первая. Раздоры
Через два дня после похорон Гавро Миладин установил небольшую полку на стене между окнами, положил на неё те две тетради Гавро, а повыше них повесил фотографию Маркса в рамке, сделанной им из белого клёна. И это стало единственной памятью об усопшем. Но, когда наступили лихие годы и фотографию Маркса со стены и тетради Гавро с полки одновременно исчезли, Миладин смастерил небольшой сундучок из сосновых досок, отполировал его, украсил резьбой, положил туда фотографию и тетради, завернул их в чистый кусок ткани. Крышку сундучка заколотил и вечером, когда стемнело, куда-то сундучок отнёс и спрятал. Остались пустая полка и белый квадрат на стене.
А усопший Гавро вновь возникал в воспоминаниях сельчан. Каждый раз, когда в селе появлялись жандармы и начинались обыски, Баневичане вспоминали о Гавро.
– Вон они у Вукашина стоги сена ворошат. Опять чёрт-те что ищут.
– Книги Гавро ищут.
– Да что им так приспичило? Ведь, когда они на полке лежали, никто их и не читал. Может, только студент какой-нибудь их иногда из любопытства листал.
– Правды как огня боятся!
А в книгах истинная правда была написана. Писал покойный Гавро о том, как занижены покупные цены на шерсть, на сыр, на жиры и на всё остальное, что производится на селе. И как государство ввело большой налог на землю. И как люди, борющиеся за правду, томятся по тюрьмам. Обо всём этом покойник писал да и о том, что соль чрезвычайно дорогая, а в земле её столько, что следовало бы её народу бесплатно раздавать.
Миладин сперва, пока Здравко не подрос и не пошёл в гимназию, частично чтобы поднять авторитет семейства, а частично и из-за нечистой совести по отношению к умершему брату, которому при жизни желал смерти, разговоры о книгах Гавро поддерживал.
– Да, конечно! Покойник обо всём этом писал и в книгах предрекал лучшую жизнь бедноте. Если бы это было напечатано и прочитано, большая бы это польза была для народа. Но не для господ! И государство почувствовало угрозу. Поэтому давит на меня, на мою семью с тем, чтобы я сдал книги жандармам. И я был вынужден спрятать их в укромное место. Придёт когда-нибудь и Гаврово время, поверьте, – говорил часто и, убеждая других, сам начинал верить в притчи, которые мимоходом придумывал.
XVI
Пока родители Здравко продолжали вынашивать мечту о том, чтобы дать единственному сыну хорошее образование и сделать из него настоящего господина, веретено времени пряло свою пряжу: эпические сказания о войнах и ратных подвигах, песни о героических сражениях, в которых оплакивались проигранные битвы и которыми молодёжь готовилась к новым подвигам, чередовались с распрями сельчан из-за межи и воды; обманы и кражи следовали после нравоучений о чести и порядочности. Непрестанная борьба родителей с таинственными злодеями, возникающими из небытия, чтобы мстить за какие-то прежние обиды; возвращение Гавро, его быстрая смерть, рассказы об Октябрьской революции; революционные настроения, возникающие среди поколения, к которому принадлежал и Здравко, – всё это влияло на формирование мировоззрения молодёжи, в том числе, – и на мировоззрение Здравко. Поэтому никто не был в состоянии предугадать, что перетянет и тем более повлиять на пути развития его судьбы. В Баневице сыздавна все жили примерно одинаково, и всё же в этой бедняцкой среде рождались герои и подлецы, жулики и честные люди, зодчие и поджигатели – как и во всем мире, где материнская утроба является вместилищем добра и зла. И кто может объяснить, почему в одном близнеце преобладает зло, а в другом – добро. И что лучше: зло или добро в этом суровом краю, где добрые люди зачастую не в состоянии противостоять наплыву злых времён.
В Баневице, однако, известно, что человеческая судьба – как вода на равнине. Сперва возникают источники, затем потоки воды начинают скитаться беспорядочно, пока не установится направление движения, а потом, стекая, вода сама себе долбит русло, из которого в дальнейшем ей уже не выбраться. Не помогут уже и весенние паводки, они только будут углублять русло и закуют ручей в более крутые берега. Но когда придёт черёд той единственной, последней капли, которая придаст воде определённое направление, и где это направление самого удачного движения? Существуют ли хорошие и плохие моря, или все моря одинаковы, а поэтому, в конце концов, не всё ли равно, в каком направлении вода или человеческая жизнь потечёт. Всё равно вода в море окажется, а перед этим неизбежно будет течь по тому руслу, которое сама себе проложила.
Прошло беззаботное детство. Для поступления в гимназию Здравко пришлось переехать в Прлевицу. С самого начала ему не глянулась городская жизнь. Лесные просторы с живописными полянами, горы с неожиданно открывающимся обзором, земляника среди папоротника и малина в зарослях, небольшие полянки у студёных источников… Всё это сменилось бесчисленными городскими улицами с мясными лавками и уборными, вонючими трактирами, около которых крутятся пьяные городские завсегдатаи, всегда готовые ввязаться в драку; базарами с навозной вонью и запахом серы от шерсти; важничающей и агрессивной детворой, разделённой по улицам и проулкам, организованной в футбольные клубы, которые между собой больше дерутся, чем играют в футбол. Принял он всё это, как новобранец – службу в армии, как нечто временное, которое пройдет, но с которым пока следует смириться и перетерпеть.
В течение всего года не покидало чувство, что он со всех сторон окружен чуждым и бездушным миром, ненавидящим его за то, что он незвано вторгся в закрытое пространство этого мира в своих шерстяных, сельского покроя штанах, белых, домашней вязки носках, кожаных лаптях и занял в гимназии место, которое по неписаным правилам принадлежит кому-нибудь из городских детей, а завтра, когда закончит учёбу, то воссядет на чиновничий стул, который по праву принадлежит тоже городским. Всюду, так ему казалось, он лишний: и в школьном дворе, и на улице и тем более на футбольном поле. Всюду его пожирают ледяные взгляды, а враждебные руки ищут повод «влепить» ему подзатыльник или потянуть за уши. К тому же произошло событие, которое ещё больше усилило у него чувство одиночества. Утром, когда он по пустынному переулку спешил в гимназию, остановил его, ухватив за ухо, грузный усатый мужчина в сюртуке из белого домотканого материала с петлями из чёрного шнура.
– Ты, дитё, внук Вукашина?
– Да, дядя, а что?
– Ничего, ничего! Расти и учись, а когда закончишь учебу и станешь господином, дядя на тебя израсходует вот это, – сказал усач и показал винтовочный патрон, который затем тщательно завернул в платочек и спрятал в карман сюртука. В голосе его звучала ненависть, а в глазах мелькало выражение, похожее на взгляд голодного кота, поймавшего мышь и решающего: съесть её сразу или с ней поиграть. Затем он отпустил его и ушёл, оставив в памяти Здравко и этот голос, и слова, которые он ещё раз повторил:
– Расти, расти и учись хорошо, а взрослым станешь – израсходую на тебя то, что показал!
Направляясь в дальнейшем в школу и возвращаясь из неё, он обходил этот переулок со смешанным чувством страха и отвращения, подобным тому, что чувствовал он к грязной свалке на окраине города, где валялись горы битого стекла, мусор и всякие другие нечистоты.
Единственным утешением в этом чуждом мире была Тана. Приходила она в город часто, чтобы принести ему еду и постирать бельё, продать сыр, сливки и шерсть и на эти деньги купить ему одежду, книги, внести квартирную плату. К брату она относилась всё внимательнее. Ей передались опасения родителей, что он, единственный сын в семье, будучи незакалённым и со слабым здоровьем, может в этой городской грязи заразиться чахоткой или какой-нибудь другой болезнью и тогда угаснет род Поповичей. Её, как Миладина и Марию, беспокоило то, что, несмотря на отборные продукты, которые она ему приносила, он оставался худым и не было в нём той силы и пышущего здоровья, которыми отличались баневичкие парни.
– Ну и вырос ты, братишка, и окреп, – скрывая свои опасения, говорила она ему каждый раз, приходя в город, обнимая его и нащупывая при этом его выпирающие рёбра. А он был рад её приходу, считал дни до очередной встречи, и когда она была с ним, то не боялся того усатого с патроном в платочке. Ему казалось, что с ней жизнь была бы беззаботной в любом месте в мире. Иной раз, пока Тана пришивала ему оторванные пуговицы или штопала носки, он рассказывал ей городские новости. А больше всего он был рад прогулкам, когда они, взявшись за руки, шли по главной улице города. Тогда весь этот чуждый мир с холодными, равнодушными или чрезмерно разогретыми ракией глазами казался ему добрее, парни уступали им дорогу и, проходя мимо, подкидывали какие-нибудь ласковые слова, а пожилые спрашивали друг друга:
– Чья это девушка?
– Чья, чья, так это же внучка Вукашина Волка, чья бы ещё могла быть!
Тана делала вид, что ничего не замечает. А может, ей было всё равно, что о ней в городе говорят. Ему даже казалось, что эти разговоры сестре неприятны. Она неохотно выходила гулять, а возвращалась усталой и сердитой.
– Пошли этим переулком, где нет праздно шатающихся, – часто говорила она.
А ему, наоборот, хотелось, чтобы все видели и весь город знал, что это его сестра.
Наверное, из-за тяжёлых крестьянских работ, которые родители на неё свалили, Тана одевалась хуже других сельских девушек. В Баневице она надевала вязаное шерстяное платье, а в городе, поверх платья, ещё и покупную шёлковую блузку. Но за волосами она всегда тщательно ухаживала. Или их сплетала в тяжёлую, расчёсанную на конце косу, когда по делам в город направлялась, или их распускала, чтобы они спадали на плечи, по праздничным дням, когда со Здравко гулять ходили по главной улице.
Рослая и стройная, с буйными красивыми волосами, с чёрными, томными глазами, она выделялась среди других, как гибкая берёза среди захирелых кустов лещины. Здравко быстро заметил, что в её манере наряжаться есть и немного женской хитрости. Скромное шерстяное платье, плотно облегавшее её роскошный стан, чудесным образом подчёркивало притягательность её тела. Она бы не так выделялась, если бы была одета в пёструю городскую одежду.
Однажды, пока они гуляли по городу, Тана ему мимоходом рассказала и о своих женихах.
– В минувшую субботу один унтер-офицер, ты его знаешь, Светозар Пантич, приходил к нам домой. Его произвели в сержанты, и он нарядился: шинель до пят, сапоги со шпорами, а к форме усы отпустил. Но всё равно под формой просматривается поденщик, несёт от него козлиной вонью, и видать, что запросто килограмма три кукурузной каши съест за один присест. А до него мать его приходила, расхваливала его: «Мой Свиле господином стал. Скоро и офицерское звание получит, поэтому и решил до этого жениться. Став офицером, уже не сможет взять девушку из села, ту, которую полюбил. Офицерские невесты должны в качестве приданого большие деньги принести, тысяч сорок. Таков порядок в войсках. Другие офицеры рады большим деньгам, а мой Свиле – нет». «Зачем мне, мама, деньги, – говорит, – деньги я и сам могу заработать, а любовь – никогда. Хочу иметь жену, которую полюбил, из наших мест, из именитой семьи, а когда она приоденется и по-городскому научится разговаривать, будет самой красивой госпожой среди всех. Чтобы гордиться я мог ею, а она мною».
Эти слова о Светозаре Здравко пропустил мимо ушей. По голосу Таны почувствовал, что в душе она над ним посмеивается, и что из этого сватовства ничего не получится. Зато удивился и оскорбился, когда среди других женихов Тана назвала и худощавого жандармского сержанта Жору, который часто приходил в Баневицу, выслеживая контрабандистов и совершая обыски. Он обнаружил, что при упоминании о нём Тана заливается румянцем, а голос становится ласковым.
– Милый братик ты мой! Ты бы только видел его, когда где-нибудь на дороге случайно встретимся: глаза у него сияют, весь трепещет, когда говорит мне «здравствуйте, барышня». А когда для пожатия подаю ему руку и он дотронется до меня, бледнеет и смущается, как дитя, губы шевелятся, как будто сказать что-то хочет, но звука нет. Стал бы на колени передо мною, если бы был уверен, что не плюну ему в лицо. Вот этот сержант действительно меня любит. Эх, если бы не был таким низкорослым и лысеющим! И если бы не был жандармом!.. И если бы я его хоть чуть любила… Не знаю, что бы было. Мама говорит, что для девушки из села нет лучшей оказии, чем стать женой жандарма. И для тебя, говорит, это было бы хорошо. Легче было бы тебе образование дать. А вот Деду он не нравится: «Жандарм – это помело. Жене, может, с ним бы и было хорошо. Но ТАКОЕ хорошее – приедается. Кому охота с помелом в кровать ложиться? И целоваться ж… Да нет, бог с ним, наша Тана не для него. Скажи ему, Мария, пусть другую себе ищет. Есть у Таны парень, который его играючи за пояс заткнёт». На Данилу он метил.
Услышала об этом сватовстве и Добрица, мать Данилы, и тоже к нам пришла.
– Время, Тануша, и о себе подумать. Достаточно ты на Вукашина батрачила.
– А мне всё равно, чью ниву пахать, – ответила я.
– Никому это не всё равно. Эта нива, которую ты сейчас пашешь, чужая тебе, и завтра, когда выйдешь замуж, если случится, что дети твои без куска хлеба останутся, то ни Деда, ни Миладин, кроме как взаймы, и мешка муки тебе не дадут».
Тана продолжала беседу с братом.
– Данило – хороший парень, здоровый и сильный, никто на Браняке камень с плеча дальше его не кинет. Но, выйдя замуж за него, только бы и сменила, что наш хороший дом на их лачугу. А я, как и каждая девушка, мечтаю о чём-то новом и неизведанном, даже если при этом в итоге и проиграю. Но не беспокойся ты обо мне, братик, никогда я замуж не выйду, – неожиданно, как и начала, закончила Тана этот разговор. Глаза её налились тоской, кровь прихлынула к голове так, что даже волосы дыбом встали. – Жарко мне, жарко, дорогой братик, – сказала и побежала во двор, чтобы из колодца достать холодной водицы и плеснуть себе на лицо.
– Опять ты, Тануша, холодной водой умываешься. Бог с тобой, не делай этого. Береги себя, простудишься, а потом мучиться будешь, – предупреждала её хозяйка голосом, полным женского сострадания.
– Не беспокойся, тетя, обо мне. Если бы и в Вучице всю ночь просидела, ничего бы со мной не случилось. Заснуть не могу, пока не озябну, – ответила. В комнату вернулась усталой и заплаканной.
– Никогда я замуж не выйду, – повторила она.
XVII
Однажды прохладной майской ночью, когда они возвращались из города узким проулком, который петлял между одноэтажными зданиями, огороженными высокими заборами, снова появился тот усатый. Шёл он краешком тротуара, крадучись, будто скрывает лицо от лунного света.
– Вон он! – вырвалось у Здравко. Усатый остановился, оглянулся, а затем стремительно рванулся вперёд и почти бегом скрылся в ближайшем дворе.
– Почему он убежал? – удивилась Тана, и тогда Здравко ей всё рассказал.
– Тебе следовало сразу прийти в Баневицу и рассказать родителям. Такое не надо утаивать, – сказала она сердито.
В её голосе не было и следа от той ежедневной готовности ему всё прощать. Она взяла его за руку и почти бегом отвела на квартиру, быстро собрала посуду, уложила в мешок и поспешно направилась в Баневицу. Здравко проводил её только до калитки, а потом взглядом – до конца проулка. Напрасно он ожидал, что она оглянется и на прощание помашет рукой. Обеспокоенная услышанным, забросив мешок за спину и слегка сгорбившись, она исчезла в темноте. А на следующий день в городе собралась почти вся семья. Прибыл и Лако Чекич со своими сыновьями и ещё какими-то парнями, которых Здравко не знал. У дома под окнами они спешились с коней, достали из сумок еду и выпивку и уселись за стоявший во дворе большой стол.
Весь день пили ракию, закусывали, провозглашали тосты и разговаривали всё громче и громче, будто оглохли и друг друга плохо слышат. И все с угрозой называли имя того усатого с патроном в платочке.
– Это поганец Косто Огненович, он ночует в городе, у Иконии Трикович. Там и сын его квартирует.
– Точно, но он, видимо, об этом забыл.
– Ежели забыл, то завтра мы ему напомним.
– Пусть знает, что и у нас патроны есть.
– И что? Огненовичи тоже из мяса и крови.
– И теперь, коли он за патрон взялся, ежели хоть волос упадёт с нашего ребёнка, то он будет за всё в ответе.
– А как же иначе?
Здравко ночью никак не мог уснуть, часто вставал с постели, подходил к окну и заглядывал во двор. Только перед рассветом шум там начал стихать, словно огонь, который, догорая, гаснет. Первыми задремали те, которые больше всех горланили. Стол же превратился в свалку пустых бутылок, обглоданных костей вперемешку с опущенными на него головами людей, закутанными в накидки. На заре послышались раскаты грома и закапал мелкий тёплый дождик. А затем сквозь облака пробились лучи солнца. Все проснулись, умылись, поливая друг другу водой из фляг, подкрутили свои усы и снова засели пировать и чокаться стаканами. Опять вся округа заполнилась гамом, угрозами и бранью. Так, разогретые и взбудораженные, как рой пчёл, вырвавшийся из улья, подались они по проулку к дому Иконии Трикович.
Мало-помалу дневной свет полностью вытеснил последние следы минувшей ночи. В конце того проулка, куда они пришли, у промоины, которую выдолбили дожди и откуда дождевая вода сносит грязь по уклону аж до центра города, залаяли собаки.
– Есть кто-нибудь? – спросил Лако Чекич, постучав палкой по невзрачным воротам.
В оконном проёме показалась полная женщина.
– Кого надо?
– У тебя ночевала та погань, которая детям патронами угрожает?
– Вы, видать, ошиблись. Тот, кого вы ищите, здесь не живет, – ответила женщина.
– Нет, Икония, мы Косту Огненовича ищем. Ежели он тут, пусть выходит. В глаза ему поглядим.
– И поговорим немного.
– Ежели он под твою юбку не спрятался. И где бы не спрятался, мы в любой дыре его найдём.
– Делайте что хотите, но здесь его нет. Ищите его там, где он живёт.
Они ещё не успели уйти, как из дома вышел Радивое, сын Косты, выпускник гимназии, рослый юноша и хороший ученик, один из тех всегда уравновешенных парней, про которых в народе говорят, что они не по годам серьёзные. Каждое утро в эту рань он выходит к реке, там выполняет гимнастические упражнения, обтирается до пояса холодной водой, а потом прогуливается с книгой в руке. Одет, будто в лес собрался: шерстяной пиджачок, старые, прорванные на коленях, укороченные штаны из домотканого сукна. На ногах шерстяные, белые, домашней вязки носки и кожаные лапти, всё как и у остальной сельской молодёжи. Быстрее растёт, чем снашивает одежду, поэтому всё, что на нём надето, ему уже мало. Длинные руки с увесистыми кулаками выглядывают из коротких рукавов. А торба, маленькая и пёстрая, наверное, мать ему её соткала, когда в первый класс школы пошёл, так и болтается у него на широкой спине.
Когда вышел со двора, аккуратно закрыл калитку, поздоровался с Миладином, поцеловал руку у Деды, поглядел на всех остальных и, не найдя среди них знакомых лиц, пошёл по проулку к реке. И ни разу не оглянулся.
– Ну и кобель! Умника из себя строит! – эти слова, сдобренные отборным матом, настигли его как брошенный камень.
Но и после этого он не оглянулся.
– Да ничего он из себя не строит. Характер у него такой. Как у его дядей, Крстовичей. Дяди его погибли, а при жизни хорошими людьми были. С добрыми сердцами, не способные на подлость. Ручаюсь, что это дитя ничего о той подлости Косты не знает, – объяснил Деда. Его так тронул поцелуй и добрые глаза Радивое, что он чуть было не прослезился.
На этом всё закончилось. Вернувшись назад во двор, допили остатки ракии, собрали свои вещи, оседлали лошадей и поехали проулком, надменные, словно сражение выиграли.
А во дворе, вытоптанном лошадиными копытами, остались собранные в кучу остатки людской и лошадиной пищи. И теперь собаки, куры, вороны, воробьи, ссорясь между собой и отнимая друг у друга, доедали эти крохи людского пиршества.
XVIII
И как в истории каждого народа существуют периоды, когда заканчивается старая и начинается новая эпоха, так и в людской судьбе происходят события, которые знаменуют собой окончание детства и формируют в человеке чувство самостоятельной личности. У Здравко Поповича это произошло в шестнадцатилетнем возрасте, когда он учился в шестом классе гимназии.
Как то в начале учебного года, после кровавой драки с лётичевцами[2], которая произошла на футбольном поле и в которую Здравко случайно ввязался, он оказался в тюрьме в одной камере с Радивое Огненовичем. Их поместили в сырую камеру, которую от внешнего мира отделяли замок в дверях и решётка на окне, а между собой их разделяли распри между родителями и межплеменные ссоры. Радивое уже два года тому назад окончил гимназию, учился в Белграде на третьем курсе юридического института, участвовал в студенческих демонстрациях, а в Палевицу приехал как сторонник нового, революционного движения. Среди преподавателей и передовой молодёжи завоевал репутацию честного парня, надёжного товарища и студента-отличника. Здравко его и раньше встречал в гимназии, но никогда с ним не разговаривал. Теперь, оказавшись вместе со Здравко за решёткой, Радивое первый начал разговор.
– Давно я собирался зайти в Баневицу к Деду и дяде Миладину – переговорить о той отцовой дурости с патроном в платочке. Я узнал об этом только спустя год после того, как Деда с друзьями приходили тогда в Прлевицу. Узнав, я ходил к отцу в Волуяк, чтобы утрясти всё, но, пожалуй, безрезультатно. Отец такой, если заупрямится, то никто его переубедить не в состоянии. Даже если иногда в содеянном и покается и уши от стыда покраснеют, то потом вдруг опять в нём что-то взбаламутится, и снова забурлит дурная кровь. Но не один мой Коста таков.
Отец утверждает, что Поповичи убили его двоюродного брата Милоню. Но мне думается, что дело не только в этом. Будь Милоня жив, они бы ссорились из-за межи, воды и по любому другому поводу, как отец ссорится со своим братом Боем, которого в прошлом году из-за каких-то кур чуть было косой не порубил. Сам сказал, что ни Деда, ни Миладин не причастны к убийству Милони. Говорит, убили его какие-то ваши дальние родственники из Брсника, которые потом переехали куда-то в Сербию.
Я отцу сказал: а мы тут при чём? Почему я и Здравко должны страдать из-за чьих-то дурацких междоусобиц, переросших в ссору, потом в убийство и в обычай кровной мести. А он как набросится на меня:
– Молчи, паршивец! Не сын ты мне! Ты в своих дядей подался! Добренькие они были, вот их другие и уничтожили.
Видишь ли, Здравко, кровная месть – это как идеология, закон или религия. Видимо, ранее без этого нельзя было обойтись. Племена, которые не мстили, если таковые вообще существовали, быстро исчезали. Убивали их кто ни попадя из-за лаптей, тулупа, шапки или накидки, а иногда – и просто из прихоти. На них упражнялись, учились, как убивать тех, настоящих, которые могут защищаться и мстить. А почему бы и не убить, если это безнаказанно. Но если знали, что последует мщение, это останавливало.
Правда убийства бывают и сейчас и будут, видимо, ещё долго. Ссоры возникают из-за воды, детей, жён, из-за чего-то и из-за ничего, просто так; начинается противостояние: сперва на словах, потом в ход пускают кулаки, палки, дело доходит до ножей и ружей, и начинается взаимное уничтожение. А потом попробуй-ка найти виновного, того, кто первый изрёк слова, которые ссору перевели в драку, или нанёс удар, который драку закончил убийством. Чтобы это установить, суду бы следовало предъявить всю нашу историю. С тех пор как существуют, люди или отнимали чужое, или защищали своё, часто награбленное, и это стало их сущностью, жизненным законом, который управляет всеми поступками. Чтобы это изменить, надо менять структуру всего общества, законы, обычаи – всё до основания. Надо исключить эксплуатацию человека человеком.
Здравко почувствовал, что в этих словах есть что-то из той Гавровой искренности и честности. За каждым словом Радивое стояло стремление к свободе, равноправию и ненависть к неправде. Здравко воспринял эти слова как собственный принцип мировоззрения, согласно которому весь багаж знания, накопленный за предыдущие годы, сортировал на две части: на зло и добро. Зло – это буржуазия, которая присваивает себе продукты чужого труда, добро – пролетариат, творец материальных благ. Вот такие он сделал выводы, хотя и о пролетариате и тем более о буржуазии у него были весьма смутные представления, никогда он их в глаза не видел.
Дальше всё шло само по себе. В хаосе мыслей и чувств был установлен порядок, а с ним крепло и сознание, что он не одинок, больше уже не слаб и беспомощен, как ранее.
Только иногда, когда приходил к выводу, что зло и добро существуют как бы вместе во многих явлениях, он спрашивал Радивое:
– Это верно, что многие капиталисты, пока не стали тем, кем они ныне, были пролетариями?

