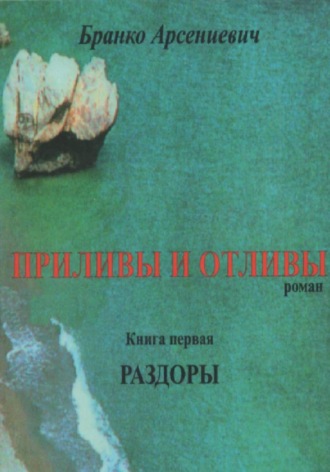
Полная версия
Приливы и отливы. Книга первая. Раздоры
В одном углу, слева от входных дверей, размещён инструмент: топоры, косы, грабли, лопаты… В другом, с правой стороны – большой сундук со старыми постельными принадлежностями и изношенной одеждой, в третьем – пристроенные к стене деревянные полки с посудой, а в четвёртом – оборудована кладовая. Там хранится зерно, картофель, бочки с солениями, старый, почти пришедший в негодность перегонный аппарат. Правда, в этих углах при покосе, жатве, сборе слив и овощей всё перемешивается, и мотыги могут оказаться среди бочек, а картошка валяется по всему помещению. Ну а у очага ещё установлен большой стол из плохо струганных досок и две скамейки, ножки которых врыты прямо в землю.
Дед Вукашин – один из тех немногих стариков этого края, который ещё при жизни стал легендой. О нём сказы сказываются, песни о его геройстве поются, ну совсем как если бы он давно погиб при знаменитых боях на Косовом поле. А в общем – он человек весёлой натуры, склонен к ребячеству, слегка легковерный. До недавнего времени ещё – с парнями состязался в толкании камня с плеча и беге, выбирая с каждым годом для соревнования всё более молодое поколение, пока наконец до детей не снизошёл. Но теперь уже и они его побеждают. Глаза у деда Вукашина всегда блестят и смотрят ласково, голос мягкий, ходит он уже на полусогнутых, хотя при ходьбе ноги ещё поднимает высоко, но осторожно, словно боится наступить на муравья или какую-нибудь другую букашку, затерявшуюся в траве. Умеет делать свирели из бузины и дудки из ольхи, рогатки, лук и стрелы, копья и многие другие безделушки. В этом он непревзойденный мастер.
Умеет дедушка сказывать детям сказки, а для взрослых поет под гусли песни о былых героических сражениях. И дети любят его, а когда повзрослеют, он становится для них составной частью воспоминаний о родных просторах, полях, лугах, ручьях: Добрине, Вучьяк, холмах: Враняк, Чёрный Верх – одним словом, всего того, что обобщается понятием «Родина». И молодёжь с первой получки или нежданного заработка покупает и приносит деду небольшие подарки. Подаркам и вниманию дед несказанно рад.
«Ну что ты, что ты! Зачем? – отнекивается дед, а внутри так всё и плавится от умиления. – Да есть у меня курительная трубка, есть! И коробочка для табака тоже есть, хотя моя и не такая красивая, как эта, которую ты мне принёс», – приговаривал дед и гладил их по голове, будто они всё ещё дети. И взрослых, чьё детство помнит, называет старыми прозвищами или «котёнок дедушкин», а если делает вид, что рассердился, то «щенок ты этакий». Жеребёнком обзывает старую клячу Милеты и помнит, когда Милета её купил, привёл в Баневицу, впервые на лошадь надел вьючное седло и начал загружать ношей. «Эх ты, жеребёнок, несчастный», – говорит.
Но, несмотря на эту кажущуюся простоту и мягкость, дед для молодёжи всегда был большой загадкой. В зимних посиделках слышали от старших сказ, как их добрый и ласковый дед из мести зарезал единственного сына албанца Хасана Омеровича. Голову отрезал, завернул в тряпьё и отослал отцу убитого в «подарок». И как спустя год дед попал в засаду семерых албанцев под предводительством того же Хасана Омеровича. Они дождались деда среди бела дня в роще у горы Занога, стреляли в него из ружей и, увидев, как он свалился с коня и кубарем покатился в промоину, подумали, что убили его, и кинулись бежать по откосу в сторону границы. Но дед был только легко ранен и сам открыл ответный огонь. Первого албанца убил метров в двухстах от себя, потом остальных пятерых и, наконец, самого Хасана Омеровича – в тот момент, когда тот уже был одной ногой в Албании. В подтверждение тому, что всё это – истинная правда, день-деньской стоят каменные надгробные плиты в тех местах, где албанцы были погребены. Эти плиты хорошо видны с гор Занога и Враняк. Они чернеют на откосе одна над другой, как изголовья у гробов от голода умерших солдат.
Между многочисленными морщинами и шрамами есть на лице Вукашина и большой рубец над левым глазом. Он свидетельствует о том, что доблестный боец не всегда был таким старым, как теперь. Этот шрам он заполучил между двумя войнами: Балканской и Первой мировой. В ту пору он взбунтовался против короля Николы, вынужден был скрываться в лесу и влюбился тогда в Митру, жену Милони Джекича, которая ему помогала укрываться, приносила в лес еду. Встречи эти привели ко взаимности, и они прямо в лесу стали заниматься любовью. Наконец любовников застукали, и слухи о них поползли по селу. Опозоренный Милоня потребовал от Митры или кровью смыть позор, или покинуть дом и детей и уйти куда глаза глядят. После долгих колебаний Митра выбрала первое. Она взяла с собой серп и провела в объятиях Вукашина ещё одну ночь – «самую горячую», – как позже хвалилась. А на рассвете перед возвращением в Баневицу ударила серпом Вукашина по голове, нанеся ему глубокую рану. И что во всём случившемся было самым чудным, сама же ему рану и перевязала. А Вукашин с окровавленной головой её до дома проводил, в присутствии Милони поцеловал и обещал, что всё это было в последний раз и больше его нога никогда не переступит порог их дома.
Говорят в народе, что заплакал тогда Милоня и сказал Вукашину: «Да брось ты! Сосед, а в дом ко мне не придёшь! Негоже это! Но негоже вам и по кустам валяться! Не дай бог, увидят люди, так позор на всё потомство ляжет, дети из дому от стыда выйти не смогут! Нет, мы здесь, как люди, как братья и соседи, должны в доме встречаться. А если вам то, чем вы до сих пор в лесу занимались, дороже чести и людского мнения, так вон вам моя постель, и там вкалывайте».
– Это правда, деда, что ты семерых албанцев сам застрелил? – спрашивал его кто-нибудь из детей, пока он им на пастбищах у горы Враняк свирели мастерил. А он отвечал:
– Да брось ты, щенок ты этакий, про этих албанцев расспрашивать. Нехорошо это, когда дети чужой погибели рады! Они, хоть и албанцы, а неплохими и храбрыми людьми были. В особенности покойный Хасан Омерович. Если бы мы где-нибудь с глазу на глаз встретились, я бы, наверное, первый испугался и дорогу ему уступил. Так уж случилось, что мы завраждовали, в этом и моя вина была. А потом они ошиблись, думая что застрелили меня, и кинулись удирать.
– А почему они хотели убить тебя?
– Да мы поссорились. Говорю: и моя вина была. А в гневе люди дурнеют. После и сами не поймут, из-за чего ссора возникла!
– Как же это ты говоришь, что вы поссорились, коли они тебя в засаде поджидали?
– Ну, хватит, хватит! На, возьми свирель и покажи, как дудеть умеешь. И брось лукавить и подзадоривать локтём других детей, будто бы разозлился дед.
О том, как застрелил албанцев, не хотел рассказывать. И нехорошо, когда его об этом спрашивают. Да и того шрама над левым глазом от удара Митры серпом стыдится, постоянно его шапкой закрывает. А дети как дети, подкрадутся к нему со спины и, делая вид, что хотят его обнять, как бы ненароком шапку с головы смахивают.
– Деда, а деда! А что это за шрам у тебя?
– Ах вы, щенята такие!
Вроде как разозлился и уходит, чтобы его больше об этом не спрашивали.
Так, с лёгкой руки детей, закрепилось за ним и среди взрослых прозвище «Деда».
III
Видимо, эта чрезмерная любовь к сельской детворе возникла в результате долголетних тревог о том, как бы не угасло потомство Поповичей – страх, который возник во время Балканской войны. Сперва его средний сын Гавро куда-то бесследно исчез, потом в боях у Майковца погиб старший сын Богдан и, напоследок, попал в плен младший – Миладин. И в это время умирает от тоски по сыновьям и без того постоянно болевшая жена. Он остался один-одинёшенек, и вся дальнейшая жизнь ему представлялась как сплошная тоска. И хотя он всё же надеялся на возвращение Гавро и Миладина, но в то же время боялся, что его ожидания могут не оправдаться и тогда, после его смерти, навсегда закроются окна и двери родительского дома.
Поля у него заросли бурьяном, двор – сорняком, а вдоль забора – сплошной папоротник. В доме завелись земляные черви, мыши, ящерицы. Как стемнеет, так в отблесках очага и сверкают их глаза, как у призраков. Они словно ждут смерти старика, чтобы всё своровать и сгрызть.
В конце Балканской войны ему улыбнулось счастье – Миладин вернулся из плена.
«Ну, соколок ты мой, раз дал Бог дождаться мне живым твоего возвращения, то, давай, скорее женись, чтобы не снести мне в гроб тревогу об исчезновении рода нашего, которая так меня одолевала, пока я здесь один тосковал», – сказал Вукашин Миладину вскоре после его возвращения.
А Миладин не спешил. Угораздило его влюбиться в малолетнюю Анджу Чекич, сироту покойного Васы Чекича, который до войны уезжал на заработки в Америку и там женился на венгерке Даре Фегеди. Но заболел, вернулся назад в Баневицу и вскоре умер. Дара тут же вторично вышла замуж, уехала, а дочь оставила Джурдже, матери Васы.
• Об этом много в селе судачили. Народ жалел сироту и осуждал жестокость её матери. Видимо, эти толки и на Миладина повлияли и засели в его памяти. Вернувшись из плена, он поинтересовался:
– А что стряслось с той сиротой, Анджей?
– А ничего! Девичья сила её распирает, замуж ей надо, хотя ещё и пятнадцати лет ей нет!
Когда же в городе её встретил, то так на неё и уставился. Понравилась ему очень озорная полувенгерочка. Думал часто о ней и каждый раз, когда она попадалась ему на глаза, сожалел, что она сирота, что бедно одета, что она не чуть постарше, тогда и женой могла бы ему стать. Глаза его сами в её сторону стреляли, а она это чувствовала, и сама искала возможность как бы случайно его встретить, проходя мимо, всегда ласково улыбалась. И однажды в субботу, когда их взгляды снова встретились, сама первая остановилась, протянула ему руку для приветствия и дрожащим от волнения голосом спросила: «Как поживаешь, дядя Миладин?»
«Тяжело сироте без братьев и родителей, хочется иметь кого-нибудь из родных», – так истолковал Миладин её поступок. Может, действительно так и было. Он её жалел, а она, может из благодарности, его полюбила, не задумываясь какой любовью: то ли, как брата, родственника, друга, или какой-то другой любовью, которую и сама ещё не понимала. Мысли, которые в голове Миладина возникали в связи с той, другой, не родственной любовью, он из себя прогонял как напасть.
«Нет, нет, не может быть и речи! Ведь она ещё дитя! На десять лет моложе меня. Просто тянется к другому человеку как сирота. Но почему именно меня в родню выбрала?» – всё чаще задумывался Миладин.
Все гадания прекратил случай, происшедший на дороге из Баневицы в Брсник. Ярко светило весеннее солнце. Ветерок приносил запахи цветущих садов вперемешку с холодными порывами только что ушедшей зимы. Миладин шёл, думая об Андже. Его взгляд так и устремлялся в сторону её дома, находящегося неподалёку на пригорке. И тут неожиданно зашевелились кусты повыше дороги. Как в мираже, вдруг из рощи показалась босоногая Анджа, сбежала по откосу ему навстречу и обняла его со словами: «Ты как здесь оказался, дорогой дядя?»
Понял он тотчас же, и по её возбуждённому голосу, и по страстным объятиям, что это не просто желание иметь родственника.
Но ничего не ответил. Она же шла рядом, держа его за руку и сияя от счастья. А в нём боролись два чувства: роль дяди и жгучее желание, возникающее каждый раз, когда взгляд его скользил по её крутым бёдрам, ядрёным грудям и румяным губам, словно излучающим медовые соки. В душе он боролся и с собой, и с ней, тщательно подбирая с трудом выдавливаемые из себя слова:
– Вскоре ты, Анджа, станешь совсем взрослой, найдёшь себе любимого, выйдешь замуж. Только не полюби жандарма или пограничника. И помимо них есть много хороших парней. А будь ты постарше или я помоложе, никому бы тебя не отдал.
– Не говори так, Миладин! Милый мой Миладин! Это совсем не важно, что ты старше меня, – перебила она его, закрывая ему рот ладонью. И, как бы убегая от самой себя, тянулась к растущим вдоль дороги полевым цветам, собирала их и вновь возвращалась к Миладину, размахивая руками, словно бабочка крылышками.
Так они шли рядом более часу, поднимаясь всё выше в горы. Анджа как бы рассыпала свои девичьи чары, а Миладин изо всех сил старался им не поддаваться.
На пути им попался горный источник, и они остановились напиться. Утолив жажду, Миладин допустил оплошность, присев передохнуть, а Анджа тут же легла рядом с ним на траву. Она возбуждённо дышала, глядя на него глазами, полными желания и решимости добиться взаимности. Он же, боясь встретить её взгляд, думал о возможных последствиях: «Ежели я её возьму, то она может забеременеть и родить. Сама сирота, да ещё и внебрачный ребёнок! Стыдоба на весь мир! Обманул, скажут, сволота, сироту! Малолетку соблазнил! Народ мне этого не простит».
Нельзя было дальше тянуть. Он нагнулся, поцеловал Анджу в лоб, а когда она от счастья закрыла глаза, вскочил и еле из себя выдавил: «Бежать нам надо, Анджа, отсюда. Бежать! В разные стороны! Иначе не сохранить нам нашей чести!»
И он буквально удрал от Анджи.
В этот же день Вукашин, не дожидаясь и не спрашивая Миладина, сосватал для него невесту, видную, красивую и пышущую здоровьем дивчину Марию. Упругие груди, распирающая её девичья сила – всё наводило на мысль, что будет от неё здоровое потомство. И не только сосватал, но в этот же день и домой её привёл. И сам же впоследствии в своих планах просчитался!
IV
Прошло три года в ожидании, что Мария забеременеет и родит мальчика. Радовались, когда она начала расширяться в бёдрах, горевали, когда выяснилось, что она лишь полнеет, как это часто бывает у бесплодных женщин. Дед в этом бесполезном ожидании с горя заболел. Боясь скорой смерти, начал причитать: «Это я, Миладин, во всём виноват! Навел меня чёрт на бесплодницу! И зачем ты меня послушался? Уж лучше бы ты ту венгерочку, малолетку, привёл! Я долго не протяну. Одолевает меня какая-то проклятая хворь, дыхнуть не даёт. Ежели умру, как каждому предписано, постарайся отделаться от этой бесплодницы и снова женись. К чему тебе эта яловая красота? Ведь люди женятся, чтобы потомство заиметь. Иначе бы весь век просто по кустам обжимались».
Видя, что Миладин ничего не предпринимает и толку с него никакого, Вукашин решил с Марией переговорить.
– Ты знаешь, сноха, что ни к тебе, ни к твоим родным у меня злобы нет. Я сам тебя выбрал, чтобы ты красотой своей дом мой украсила. Но и чтобы ораву внуков мне нарожала! Чтобы они гурьбой вокруг очага копошились. И ежели бы меня не постигло несчастье и не остался из трёх только один сын, ни на кого бы тебя не променял. Красотой и милосердием царицей бы тебе быть. Но коли рожать не можешь, Христом Богом и святым Иоанном тебя прошу: не прекращай рода моего, и раз уж Миладин не в силах тебя прогнать, то ты сама брось его и уходи.
– Уйду, Деда, уйду! Я ж сама уже об этом думала. Но вот ещё одну травяную настойку попью, и ежели не поможет, так уйду я, – согласилась Мария. И, опустив голову к нему на колени, горько зарыдала, приговаривая сквозь слёзы:
– Уйду, Деда, уйду, раз уж Бог меня так наказал!
Заплакал и Вукашин. И сам окунулся в мир мечты и ожидания, надеясь, что всё же помогут ей травы, которые она откуда-то приносила, варила в кастрюльке и каждый вечер, трижды перекрестившись, по два стакана этой настойки выпивала на сон грядущий. В этом ожидании прошло несколько месяцев, как вдруг!..
Была весна. Вукашин и Миладин закончили сев, поднялись на Рашево гумно отдохнуть в прохладе, попить холодной водицы и сверху, с высоты, поглядеть на поля, луга и сады. Трава уже буйно взошла, плодовые деревья отцвели и завязались как никогда ранее. И тут из рощи буквально вывалилась Мария, вся раскрасневшаяся от усталости и возбуждения.
– На кого же ты скот на Враняке оставила? – строго спросил её Вукашин.
А она вместо ответа обняла его, задрожала и заплакала.
– Я в себе что-то почувствовала! – промолвила.
– Вот как, киска дедова! – догадался Вукашин и, не найдя других слов, повторил несколько раз: – Вот как! Вот как! А я уже думал, что бесплодную нашёл. Ну, раз дал Бог, то пошли вниз, к дому, праздник устроим. А тебе отдыхать надо! И хорошо кушать! Ничего тяжёлого не поднимай. На Враняк я сам пойду за скотом присматривать.
Так в доме Вукашина наступили долго ожидаемые счастливые дни. Миладин и Вукашин берегли Марию как зеницу ока. Вукашин на Враняке ухаживал за скотом, перерабатывал молоко в продукты и дважды в неделю спускался в Баневицу, приносил домой свежее молоко, мясо, сливки и молодой сыр. Миладин в одиночку обрабатывал землю, помогал Марии в домашних делах, ходил с ней на прогулки, иногда в лес к Орловой скале, иногда по дороге через Дубокальское ущелье до самого города.
– Береги себя, Мария! Никуда по кручам одна не ходи, о заботах не думай, мозги не напрягай, живи себе в удовольствие. Пусть и ребёнку в тебе будет хорошо, – говорил он часто. Для него краше женщины на свете не было. А Мария на удивление похорошела. Лицо стало румяным, появившиеся, было, морщины сгладились. Редкая седина затерялась в копне роскошных волос, и Миладину казалось, что она стала даже краше, чем когда была ещё девушкой.
– Какая же ты стала, Мария!
– Какая?
– Да красивее, чем ранее!
– Да ну? А ты хотел меня прогнать! – не удержалась Мария.
– Всё это Деда, из-за того, что детей не было. А я… Лучше бы руку потерять, чем с тобой расстаться!
«Кабы не так! При живой жене невесту начал было себе присматривать. Что ты с ним поделаешь!» – думала про себя Мария.
Так они, радуясь шевелению ребёнка в материнской утробе, жили счастливой семейной жизнью. Наконец наступили долгожданные роды. Как раз сгустились сумерки после яркого солнечного дня. Настало время, когда в Баневице все замирает и начинают проявляться не слышные днём звуки жизни: трели соловья, рулады сверчка, журчание ручья, крик сокола в горах и бесчисленное количество разных других звуков, которые ветерок приносит из полей, лугов и дубрав. А у Марии начались схватки. Пригласили акушерку, в очаге разожгли посильнее огонь, разогрели в котле воду.
Потом настало бестолковое, как казалось Вукашину, хождение из новой комнаты в общее помещение и обратно. И так много раз – аж до полуночи. А потом вдруг всё прекратилось. И вместо торопливых шагов, звона посуды при зачерпывании воды из котла, стона Марии и сдержанного голоса акушерки вдруг послышался плач новорождённого. Не выдержал Миладин, вбежал в новую комнату и через несколько мгновений выскочил оттуда словно ошпаренный.
– Дивчина, папа!
– Пустое дело! Видать Поповичи горазды только холостыми стрелять и не бывать продолжению нашего рода, – с горечью произнёс старик.
Миладину хорошо запомнился укоризненный, исполненный болью взгляд отца и печальные, выдавливаемые по слогам слова. Высказавшись, Вукашин отковылял к очагу и свалился на скамейку, будто подкошенный. Посидев немного, он встал и поплёлся из дома наружу, во мрак ночи, чтобы не слышать плача девочки. А Миладин подумал, что некрасиво поступил, выбежав из комнаты, поэтому вернулся назад, мрачный, угрюмый и сел на краешек кровати рядом с Марией, утомлённой родильными муками.
– Смотри, Миладине, на тебя похожа! Только, вот, девочку Бог нам дал, – промолвила Мария. И, немного помолчав, добавила: – Надеюсь, это не последний будет ребёнок.
– Не знаю, Мария, только нет в ней ни капли нашей крови! Ну что же, раз Бог нас так покарал, то пусть хоть растёт здоровой.
– Ну и я это говорю! Ведь ребёнок ни в чём не виноват. Так Бог распорядился! Я ещё тебе детей нарожаю, только ты к ней злобу не таи. Хотя она и девочка, но ведь твоя же.
Мария с трудом приподнялась поглядеть на новорождённую. Ей казалось, что рядом лежит часть её самой, её существа. Она все ещё чувствовала боль недавнего раздвоения; тот короткий миг – при обрезании пуповины – и какой-то другой, продолжительный период, который только начинался.
«Не хочу, мама, с тобой расставаться! Не хочу! Боюсь!»
Боязнь, что дочь будет несчастной, травила каждую частицу её материнского существа.
V
Вскоре Поповичи, чтобы затушевать несчастье, пригласили на крещение ребёнка всё село. Но именно тогда, когда во дворе, где были накрыты торжественные столы, прозвучали первые тосты, сверху от дома Милеты загремели выстрелы. Пули свистели над головами гостей, а потом раздался голос:
– О, братья в Наковане! В доме Милеты Лукича родился сын!
Перемешиваясь со звуками выстрелов, этот крик заполнил всё окружающее пространство и ужалил Деда и Миладина прямо в сердце. Им казалось, что Лукичи палят из ружей им назло, в пику, чтобы напомнить им об их несчастии, когда вместо наследника родилась дочь.
На следующей неделе и Милета устроил пышный праздник. Хотя Поповичи и посчитали приглашение мщением за какие-то прежние обиды, они, зажарив барана и неся богатые подарки, всё же пошли поздравить роженицу. И снова у них в душе «заскребли кошки». Сперва Милета, потом его жена Добрица, а затем и священник, словно сговорившиеся испортить им настроение, поочерёдно совали им в руки запелёнатого младенца. Всучали его, чтобы показать и дать подержать, а потом не брали обратно, делая вид, что заняты каким-то делом. В действительности же и они, да с ними и всё село, исподтишка наблюдали за Дедом и Миладином, как те себя поведут. Знали, что у них сердца разрываются от зависти, но хотели посмотреть, как они не терзаясь, а улыбаясь, будут тетешкать младенца.
– Посмотри, Деда, какой красивый и хорошо развитый ребёнок, и даст Бог, в будущем, когда дети вырастут, то и породнимся. Соединим наши две молодецкие семьи, – поддразнивали их.
Долго спорили, как назвать младенца. Гости, попивая ракию, перечисляли подвиги предков Лукичей, Милана и Николы, говорили о заслугах Милоша.
– Нет, не Милош и не Никола, а Данило – вот как надо его назвать! А вырастет, так пусть станет знаменосцем, как его покойный прадед, – предложил Пеко Ногавица.
Поповичи и эти разговоры принимали на свой счёт и домой вернулись крайне несчастными, с тяжёлым чувством, что их род гаснет. Боль от рождения девочки в дальнейшем переносили молча, живя в надежде, что Мария, раз уж способна рожать, вскоре снова забеременеет и всё же родит мальчика. Однако отношение к Марии и у Миладина и у Деда изменилось: чаще на неё сердятся и делают назло, и по поводу, и без повода. Бывало, Миладин в поиске чего-то разбросает вещи по дому и ежели сразу не находит то, что ищет, или тем более находит не там, где вещь должна быть, кричит на Марию: «Никакого порядка в доме нет, будто у тебя «семеро по лавкам»!»
Мария отмалчивалась. Она знала, что ищет он что-то такое, чего вообще нет в том барахле, которое он почти ежедневно перекладывает с места на место и, чувствуя за собой вину, уходила с глаз долой, пока у него злость не проходила. Часто вспоминала счастливые дни беременности и всей душой желала снова забеременеть. Но всё же однажды и у неё кончилось терпение. Они только что проводили сестру Миладина Стефанию, которая гостила у них в Наковане с десяток дней вместе с сыновьями Гавром и Александром. И надо же было ей сказать:
– Что-то сестра у тебя больно худая, уж не заболела ли?
– А ты за неё не волнуйся – детей она рожает. Не бесплодная она, чтобы полнеть.
– Это ты, Миладине, бесплодный! И предки твои своим жёнам по одному-два ребёнка делали да по чужим гнездам, как кукушка, детей подкидывали.
Надоело ей молча переносить оскорбления. А может, действительно, не в ней, а в нём вина? Её род и по матери, и по отцу славился плодовитостью.
«Ежели это так, то, значит, и эта дивчина не моё дитя», – подумал Миладин и начал искать доказательства прелюбодеяния жены. И, как ему казалось, нашёл их быстрее, чем ожидал.
Весной, как раз тогда, когда Мария забеременела, он застал у себя в доме клювоносого Ивана Чёрковича, приехавшего из Метохии. Носатый сидел, попивал ракию, закручивал усы и смотрел на Марию как-то свысока, блуждающим взглядом, а она крутилась вокруг него, будто ей шестнадцать лет. Миладину было известно, что когда-то они встречались, вроде были влюблены друг в друга. Но Мария вышла замуж, а носатый женился и переехал в Метохию. Мария ему сама об этом рассказывала. И не скрывала, что когда-то его любила. Когда произносилось его имя, она краснела, а глаза туманились воспоминаниями.
«Ивушка, милый мой Ивушка», – как-то однажды ошибочно вырвалось у неё в первые дни замужества, когда она лежала в обнимку с Миладином.
«И как же так получилось, что зачатие у неё произошло именно той весной, когда я её застал с носатым?» – думал Миладин.
Так извлечённое из забвений воспоминание стало доказательством и тяжким обвинением: «Она изменила мне, и эта девчина не моя!» «Это правда, Мария?» – как-то хотел он её спросить. Но язык как присох к нёбу, и вместо вопроса послышался лишь звук, похожий на стон или мычание.
Девочке дали имя Тана. Ей исполнилось три года. Однажды, словно понимая тоску Миладина, она зашла в новую комнату, надела на себя старые отцовы брюки и, путаясь в штанинах, вернулась к очагу, намереваясь развеселить его:

