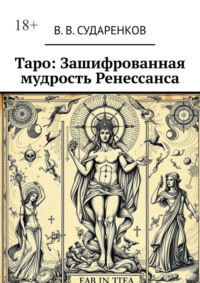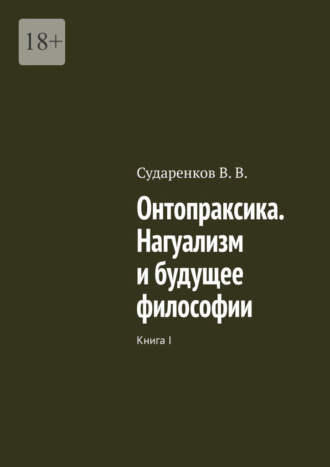
Полная версия
Онтопраксика. Нагуализм и будущее философии. Книга I
* Экологический кризис как следствие раскола. Посмотрите на отношение западного человека к природе. Если природа – это res extensa, бездушная, протяженная машина, лишенная внутренней жизни и смысла, то она становится лишь ресурсом, сырьем для удовлетворения потребностей res cogitans. Мы – призраки, заброшенные в гигантский механизм, и наше предназначение – подчинить его себе. Эта установка, уходящая корнями в картезианский дуализм, является одной из глубинных причин современного экологического кризиса. Мы не чувствуем себя частью природы, потому что наше сознание, наш «призрак», исключен из нее по определению.
Взгляд из нагуализма: диагностика сборки
И вновь, как и в предыдущих главах, мы приходим к выводу, что проблема – не в реальности, а в линзе, через которую мы на нее смотрим. С точки зрения нагуализма, все перечисленные тупики – от «трудной проблемы» до экологического кризиса – являются симптомами одной и той же болезни: жесткой фиксации точки сборки в конфигурации, где раскол является исходной и неоспоримой данностью.
Мы приняли картезианскую сборку за окончательную карту реальности. Мы верим, что мы и вправду «призраки в машине», и поэтому все наши интеллектуальные усилия направлены на то, чтобы примирить эти две вымышленные сущности. Но «призрак» и «машина» – это не онтологические данности, а продукты описания мира. Это мощные, но частные конструкции тоналя.
Что же предлагает нагуализм? Не решение картезианской проблемы, а ее диссолюцию – растворение. В акте прямого восприятия, «видения», мир предстает не как дуалистический, а как монистический – единое энергетическое поле. В этом поле нет отдельного «сознания» и отдельной «материи». Есть осознание, которое является фундаментальным свойством самой энергии. Мозг – не генератор сознания, а рецептор, редукционный клапан, который фокусирует и стабилизирует вселенское осознание в узком, практичном для выживания диапазоне – в нашей привычной дуалистической сборке.
Таким образом, «трудная проблема» исчезает не потому, что она решена, а потому, что меняется сама система координат, в которой она была сформулирована. Вопрос «Как мозг порождает сознание?» теряет смысл, как теряет смысл вопрос «Как динамик порождает музыку?» Динамик не порождает музыку; он ее транслирует, будучи настроенным на определенную частоту. Так и мозг не порождает сознание, а является инструментом его локализации и спецификации.
Наследие картезианской раны – это гигантский пласт нашей культуры, который необходимо не преодолевать в лоб, а осознать как исторически сложившуюся конфигурацию. Это тюрьма, стены которой мы сами возводили четыреста лет, принимая их за границы мироздания.
5. Взгляд из нагуализма: почему это – тупиковая сборка
Продиагностировав картезианскую рану, вскрыв ее анатомию и проследив ее метастазы по всему телу современной мысли, мы подходим к критическому рубежу. Все предыдущие попытки лечения – идеализм, материализм, параллелизм – оказывались паллиативами, снимающими симптомы, но усугубляющими болезнь. Они работали внутри парадигмы, которую и следовало поставить под вопрос. Теперь настало время сменить оптику, взглянуть на проблему не изнутри картезианской тюрьмы, а с высоты, откуда видны сами ее очертания как исторически сложившейся конструкции. Этот взгляд предлагает нам нагуализм – не как «учение», а как строгий праксис, переводящий философский вопрос «Что есть реальность?» в экспериментальный режим: «Как я собираю свою реальность и могу ли я изменить этот процесс?»
Критика через призму Тоналя и Нагваля: картезианство как продукт описания
Основополагающая дихотомия нагуализма – Тональ и Нагваль – не является дуализмом в картезианском смысле. Это не два типа субстанций, а два режима восприятия и познания, два способа организации опыта.
* Тональ – это «остров означенного». Это весь известный нам мир: не только физические объекты, но и мысли, чувства, социальные структуры, научные законы, сама концепция «Я». Тональ – это гигантский классификатор, который описывает, именует, интерпретирует, выстраивает причинно-следственные связи. Его функция – создавать стабильный, предсказуемый, пригодный для жизни мир. Это операционная система человеческого восприятия.
* Нагваль – это «неизреченное». Это мир за пределами всякого описания, необъятная и неклассифицируемая сила, энергия, чистая потенциальность. Нагваль – это не «что-то», а скорее «ничто», из которого рождаются все «что-то». Это не альтернативная реальность, а сама основа реальности, которую тональ своим описанием затемняет, редуцирует до удобоваримых форм.
С этой точки зрения, картезианский дуализм – это не описание онтологической структуры мироздания, а мощная, предельно жесткая сборка тоналя. Декарт и его последователи не открыли истину о res cogitans и res extensa; они совершили грандиозный акт описания, который на столетия зафиксировал западное восприятие в определенной конфигурации. Они приняли продукт работы своего классификатора – концепции «сознания» и «материи» – за изначальные сущности.
Таким образом, сама «проблема взаимодействия» оказывается псевдопроблемой, артефактом языка. Это все равно что спорить, как именно существительное взаимодействует с глаголом. Они не взаимодействуют; они суть элементы одного предложения, одной системы описания. Res cogitans и res extensa – это два фундаментальных понятия в грамматике картезианского тоналя. Вопрос об их связи столь же бессмысленнен вне этой грамматики, как вопрос о том, почему в английском языке артикль стоит перед существительным. Это просто правила данной конкретной сборки.
Точка сборки: Прощай, объективная реальность
Ключ к пониманию этого подхода лежит в центральной концепции нагуализма – точке сборки. Это не метафора, а, согласно учению, конкретное энергетическое образование в нашем коконе, которое определяет, какую именно часть необъятного энергетического потока Нагваля мы воспринимаем как реальность. Положение точки сборки диктует способ интерпретации сенсорных данных, структурируя их в связную картину мира.
Картезианский дуализм, с этой точки зрения, – это результат жесткой фиксации точки сборки в определенном положении, где восприятие автоматически раскладывает опыт на две корзины: «внутреннее, мое, мыслящее» (приблизительно – res cogitans) и «внешнее, не-мое, протяженное» (приблизительно – res extensa). Мы настолько срослись с этой фиксацией, что приняли ее за единственно возможный способ бытия в мире. Мы подобны людям, которые родились и выросли в комнате с дихроматическими очками, и уверены, что мир и вправду состоит только из двух цветов.
«Трудная проблема сознания» с этой точки зрения – это не загадка природы, а симптом этой фиксации. Она возникает, когда точка сборки, застыв в картезианской позиции, пытается рефлексивно осмыслить саму себя. Она пытается найти «сознание» в мире, который она же сама собрала как «лишенный сознания». Это безнадежная задача, похожая на попытку глаза увидеть сам себя без зеркала. Проблема не в том, что сознание необъяснимо, а в том, что инструмент объяснения (картезиански собранный интеллект) изначально настроен так, чтобы сделать его необъяснимым.
Воля (Intent) как онтологический принцип: Замена взаимодействия на проявление
Как же нагуализм предлагает «решить» проблему? Не решением как таковым, а сдвигом. Если картезианская модель предполагает взаимодействие между двумя разными сущностями, то нагуализм предлагает модель проявления или фокусировки из единого источника.
Здесь на сцену выходит третья ключевая концепция – Воля (Intent). Это не «воля» в смысле Шопенгауэра (слепой мировой принцип) или Ницше («воля к власти»). Intent в нагуализме – это целенаправленная, разумная сила Вселенной, ее имманентная направленность. Это клей, связывающее начало, сам импульс жизни и осознания.
В картезианской парадигме моя воля поднять руку – это загадочный ментальный акт, вызывающий физическое движение. В парадигме нагуализма, мое намерение поднять руку – это уже само по себе есть микросдвиг точки сборки, переконфигурация энергетического поля, которая непосредственно проявляется как движение руки. Нет разрыва, нет передачи сигнала от нематериального к материальному. Есть единый акт: фокусировка Intent’а. Мозг и нервная система в этом процессе – не генераторы, а сложные ретрансляторы, усилители и стабилизаторы этого изначального импульса.
Это похоже на луч прожектора (Intent), который, фокусируясь через линзу (точка сборки), освещает определенный участок сцены (Тональ), делая его видимым и «реальным». Сдвиньте линзу – и луч осветит другую часть сцены, другую реальность. Проблема «как луч взаимодействует со сценой» не имеет смысла, так и сцена, и луч – проявления одного и того же света.
Практическое следствие: Онтопраксика вместо онтологии
Что следует из этого взгляда для нашего изначального вопроса? Самое радикальное: философия должна сменить парадигму с онтологической (что существует?) на онтопраксическую (как я собираю то, что существующим мне кажется?).
Вместо того чтобы вести бесконечные споры о природе сознания и материи, нагуализм предлагает практику: техники остановки внутреннего диалога, сталкинга, сновидения. Эти техники – не ритуалы, а строгие методологические процедуры, направленные на одну цель: расшатать фиксацию точки сборки и обрести опытное знание о ее пластичности.
* Остановка внутреннего диалога – это не просто «успокоение ума». Это приостановка работы главного инструмента тоналя – бесконечного вербального комментария, который и поддерживает привычную сборку. В молчании ума точка сборки теряет свою жесткую фиксацию, открывая возможность для иных, невербальных способов восприятия.
* Сталкинг – это искусство осознания себя как тоналя, наблюдения за собственными автоматизмами, реакциями, социальными масками. Это практика понимания того, что наше привычное «Я» – не единственно возможная конфигурация, а лишь одна из многих ролей, которые можно играть безупречно.
* Сновидение – это исследование других позиций точки сборки в состоянии, свободном от диктата физического тела и его социального контекста. Это прямое экспериментирование с онтологией.
Через эти практики адепт на собственном опыте обнаруживает, что «реальность» – это не нечто заданное раз и навсегда, а процесс, непрерывный акт сборки. И «трудная проблема» теряет свою власть над ним не потому, что он нашел на нее ответ, а потому, что он вышел из игрового поля, на котором она может быть задана.
От апории к возможности
Таким образом, взгляд из нагуализма позволяет нам переинтерпретировать картезианскую рану не как трагедию, а как вызов. Это тупик, но тупик определенной сборки, а не мышления как такового. Картезианский дуализм был необходимой стадией в эволюции самосознания, гигантским усилением тоналя, который, однако, зашел слишком далеко, приняв свою конструкцию за всю полноту бытия.
Наследие этой раны – все наши философские апории, разрыв между наукой и гуманитарным знанием, психосоматические расстройства – это не окончательный приговор, а симптомы. Симптомы того, что мы достигли предела одной парадигмы. Нагуализм не «опровергает» Декарта; он включает его опыт в более широкий контекст, показывая, что cogito – это не конечная станция, а лишь один из возможных режимов работы осознания.
Выход заключается не в том, чтобы найти, наконец, мост между призраком и машиной, а в том, чтобы осознать, что мы сами – и не призрак, и не машина, а нечто третье: осознающее энергетическое поле, способное к бесконечным актам сборки. Картезианская рана заживает не тогда, когда мы ее зашиваем, а тогда, когда мы обнаруживаем, что мы никогда не были рассечены надвое. И это открытие – не интеллектуальный вывод, а результат праксиса, конкретного действия по изменению собственного восприятия. Именно этот переход от теории к трансформирующей практике и составляет суть онтопраксики, к которой мы будем возвращаться снова и снова на протяжении всей этой книги.
6. Заключение. Тюрьма без стен
Наше путешествие по лабиринтам картезианской раны подошло к концу. Мы начали его в натопленной комнате-печи, где акт радикального сомнения породил не только несокрушимый фундамент cogito, но и глубокую трещину в самом сердце западного мироощущения. Мы препарировали анатомию этого раскола, наблюдая, как рассеченная реальность распалась на два непримиримых полюса: мыслящий «призрак» и бездушная «машина». Мы стали свидетелями тщетных попыток последующих эпох навести мосты между этими берегами – попыток, которые, при всей своей интеллектуальной изощренности, лишь подчеркивали масштаб пропасти. Мы увидели, как эта рана, не заживая, продолжает кровоточить в самых разных сферах: в мучительных тупиках философии сознания, в эпистемологическом кошмаре наук о познании, в экзистенциальном разладе современного человека и в глобальном экологическом кризисе.
И, наконец, мы попытались взглянуть на эту проблему с принципиально иной точки – с позиции нагуализма, который предлагает не очередное решение, но радикальный сдвиг перспективы. Что же мы в итоге обнаружили?
Диагноз: тупик не реальности, а описания
Главный вывод, к которому мы пришли, заключается в том, что картезианская проблема – это не онтологическая трагедия, а эпистемологический капкан. Это не отражение изначальной раздвоенности мироздания, а следствие специфической, исторически сложившейся конфигурации восприятия. Приняв продукт работы собственного описания мира – дихотомию «субъект-объект», «сознание-материя» – за его подлинную сущность, западная мысль сама загнала себя в ловушку, изнутри которой выход кажется невозможным.
«Трудная проблема сознания», этот сфинкс современной философии, – не чудовищная загадка природы, а симптом. Симптом жесткой фиксации того, что нагуализм называет точкой сборки. Это фиксация в положении, где реальность автоматически и безальтернативно раскладывается на внутреннее и внешнее, на мыслящее и протяженное. Все наши интеллектуальные усилия, направленные на то, чтобы склеить эти осколки, напоминают попытку собрать разбитую вазу, не выпуская ее обломков из рук. Мы не можем ее починить, потому что сами и есть та сила, что ее удерживает в разбитом состоянии.
Таким образом, картезианская тюрьма – это тюрьма без стен. Ее стены – не из камня, а из концепций. Ее решетки – не из железа, а из грамматических структур нашего языка и невидимых контуров нашего восприятия. Мы настолько срослись с этой тюрьмой, что приняли ее архитектуру за единственно возможное устройство космоса. Мы – заключенные, которые забыли, что находятся в заключении, и потому не ищут выхода.
Лекарство: онтопраксика как выход за пределы дилеммы
Что же предлагает нагуализм в качестве альтернативы? Не новую теорию, не более изощренную философскую конструкцию, а праксис. Переход от вопроса «Что есть реальность?» к эксперименту «Как я собираю свою реальность?» знаменует собой смену парадигмы – от умозрительной онтологии к практической онтопраксике.
Такой подход снимает многовековое проклятие картезианской проблемы. Вместо того чтобы спрашивать: «Как призрак взаимодействует с машиной?», мы начинаем практиковать сдвиг точки сборки. В акте остановки внутреннего диалога мы приостанавливаем работу главного тюремщика – вербального ума, цементирующего привычную дуалистическую сборку. В практике сталкинга мы начинаем видеть самих себя как тональ, как набор программ и реакций, и обретаем возможность их перепрограммирования. В искусстве сновидения мы на собственном опыте обнаруживаем, что реальность пластична и что наше обычное «бодрствующее» состояние – лишь одна из бесчисленных ее конфигураций.
Это не бегство от реальности в мистицизм. Это, если угодно, применение к себе самого строгого научного метода: экспериментальная проверка гипотезы о природе реальности. Гипотеза такова: то, что мы считаем неизменной, объективной реальностью, является динамическим, зависимым от наблюдателя процессом сборки. Практики нагуализма – это методы верификации этой гипотезы. И ключевой инструмент в этом эксперименте – Воля (Intent) – понимаемая не как психологическое усилие, а как фундаментальная сила Вселенной, направляющая и фокусирующая осознание.
Последствия: новая карта для мысли
Каковы же последствия этого сдвига для будущего философии и нашего самопонимания?
1. Примирение науки и опыта. Нагуализм не отрицает науку; он помещает ее в более широкий контекст. Научное познание предстает как могущественный, но частный способ сборки мира – способ, идеально работающий в пределах тоналя, но бессильный перед лицом Нагваля. Наука описывает структуры реальности, тогда как онтопраксика открывает доступ к ее потенциальности. Они перестают быть врагами и становятся взаимодополняющими путями исследования.
2. Преодоление экзистенциального отчуждения. Осознание себя не как «призрака в машине», а как энергетического поля, способного к трансформации, радикально меняет переживание собственного бытия. Психосоматические расстройства, это живое воплощение картезианской раны, перестают быть загадкой. Они становятся сигналами о конфликтах и фиксациях в нашей энергетической конфигурации, которые можно распознать и изменить. Ответственность за свою реальность перестает быть бременем и становится актом силы.
3. Этика, рожденная из единства. Если раскол между «мной» и «другим», «человеком» и «природой» является иллюзией определенной сборки, то этика, основанная на этом расколе, оказывается хрупкой. Онтопраксика открывает путь к этике, проистекающей из прямого восприятия энергетического единства всего сущего. Забота о другом и о планете становится не социальным долгом, а естественным следствием видения мира как единого живого целого, частью которого являешься и ты сам.
Приглашение к путешествию
Эта глава, как и вся книга, задумана не как конечный вывод, а как отправная точка. Мы завершили диагностику одной из самых глубоких болезней западной мысли. Мы указали на аптечку, в которой лежит не панацея, а инструменты для выздоровления – инструменты онтопраксики.
Картезианская рана была необходимой стадией взросления, болезненным, но важным актом самоосознания. Однако пора снять повязки и обнаружить, что шрам – это лишь память о старой травме, а не сама травма. Пора сделать следующий шаг: выйти из тюрьмы, которую мы сами истолковали как дом.
Философия будущего, если у нее есть будущее, не может оставаться лишь дискурсом. Она должна стать путем, методом, практикой трансформации. Она должна рискнуть покинуть проторенные тропы интерпретации и отважиться на прямое восприятие неизреченного. Это путешествие не для слабых духом. Оно требует интеллектуальной честности, чтобы признать тупик, и мужества воина, чтобы сделать первый шаг в неизвестность.
Но тот, кто решается на этот шаг, обретает не новые ответы на старые вопросы, а нечто бесконечно более ценное – саму способность задавать новые вопросы из нового, более обширного и свободного места. И первый из этих вопросов, эхо которого будет звучать во всех последующих главах, таков: если реальность – это не данность, а сборка, то какую реальность ты выберешь собрать завтра?
Глава 3. Лабиринт зеркал: постмодернизм и тотальный конструкционизм
1. Вступление: от метафизики к лингвистике – новый поворот винта
Представьте себе заключенного. Но не того, кто томится в каменном мешке с решеткой на окне, а того, кого много лет назад поместили в идеальную, белую, стерильную комнату. Сначала он бился о стены, искал щели, скрытые механизмы – тщетно. Стены были монолитны, без единого шва. Прошли годы. Отчаявшись найти выход, он начал изучать саму поверхность этих стен. И обнаружил, что они – не просто белые; при определенном освещении на них проступают тончайшие, изощреннейшие узоры, фрески невероятной сложности. Он стал разгадывать их логику, находить взаимосвязи, расшифровывать скрытые послания. Это занятие поглотило его целиком. Он составил каталоги, написал трактаты о символизме этих орнаментов, разработал целую науку о стенах своей камеры. И в конце концов, он пришел к выводу, блестящему и неопровержимому: эти стены – это и есть вся вселенная. Выхода не существует, потому что нет ничего, что можно было бы назвать «вне». Есть лишь бесконечно сложный, самодостаточный Узор.
Этот заключенный – западная философия второй половины XX века. А его комната – это язык.
Наше путешествие по лабиринтам сознания привело нас от печи Декарта, где был заключен первый пакт с дьяволом дуализма, к новому, еще более изощренному заточению. Если картезианская рана разделила реальность на «призрака» и «машину», заперла сознание в черепной коробке и заставила его с тоской взирать на недостижимый внешний мир, то следующий виток философской мысли совершил поистине гениальный и самоубийственный маневр. Он объявил, что самой коробки не существует. Нет ни «внутри», ни «снаружи». Есть лишь бесконечная игра языковых конструктов, текстов, нарративов и дискурсов, которые отсылают друг к другу в вечном, самодовлеющем карнавале смысла.
Это и был «лингвистический поворот», кульминацией которого стал постмодернизм. Отчаявшись найти мост между res cogitans и res extensa, философия в лице своих самых ярких представителей – от позднего Витгенштейна до Деррида и Фуко – решила проблему радикально: она упразднила реальность как референт. Вместо того чтобы пытаться соотнести хрупкие конструкции ума с неуловимым миром «самим-по-себе», она сосредоточилась на анализе самих этих конструкций. Если уж нам суждено быть вечными узниками языка, давайте же сделаем нашу тюрьму предметом самого пристального изучения! Давайте опишем ее архитектуру, механизмы работы ее дверей, которые никогда не отворяются, и зеркал, которые отражают лишь друг друга.
Это был поворот от метафизики к лингвистике, от онтологии к герменевтике, от вопроса «что есть?» к вопросу «как устроено наше говорение об этом?» И надо отдать должное – в рамках своей парадигмы это был шаг колоссальной мощи и освобождающей силы. Постмодернизм стал философским супер-эго, безжалостным критиком всех и всяческих «больших нарративов» – будь то религия, наука, прогресс, разум или история. Он обнажил механизмы власти, скрытые в самом языке, показал, как дискурс конструирует наши идентичности, наши желания, саму нашу реальность. Он был подобен психоаналитику, который раскрывает пациенту, что его «глубинное», «естественное» «Я» – всего лишь продукт семейных драм, социальных условностей и языковых игр.
Но, как это часто бывает с блестящими диагностами, прописанное им лекарство оказалось хуже болезни. Провозгласив «смерть субъекта» и «конец больших нарративов», постмодернизм не оставил человеку ничего, кроме ироничной игры в обломках прежних смыслов. Он блестяще продемонстрировал, что стены тюрьмы сделаны из языка, но, ослепленный собственным триумфом, объявил, что за этими стенами – пустота. Лабиринт зеркал, в котором каждое зеркало отражает другие зеркала, создавая иллюзию бесконечной глубины, был принят за единственно возможный космос.
В этой главе мы проследим этот путь – от тревожных прозрений Витгенштейна о границах нашего мира, совпадающих с границами нашего языка, до радикального шага Деррида, заявившего, что «нет ничего вне текста», и до тотализирующих анализов Фуко, показавшего, как дискурс производит саму ткань социальной реальности. Мы восхитимся интеллектуальной мощью этого проекта и с беспощадной ясностью вскроем его экзистенциальный тупик.
Ибо в конечном счете, за всем этим философским блеском скрывается простая, почти детская тоска – тоска по чему-то настоящему, по опыту, который не был бы сразу же поглощен и расчленен машиной интерпретации. По вкусу яблока, который был бы просто вкусом, а не «дискурсом о яблоке», «конструктом вкусового восприятия» или «симулякром воспоминания о первом грехопадении». По молчанию, которое предшествует слову. По прямому контакту с миром, каким он был до того, как мы его назвали.
Именно здесь, в этой точке предельного отчаяния мысли, задыхающейся в собственных конструкциях, мы снова обратимся к нагуализму. Он предложит нам шокирующе простой, почти кощунственный с точки зрения постмодернистского канона ход. Он не станет спорить с постмодернизмом на его поле, оспаривая одни интерпретации другими. Вместо этого он предложит выйти из комнаты с зеркалами. Не через дверь (ибо двери там и впрямь нет), а через сдвиг самого способа восприятия – сдвиг точки сборки. Он напомнит нам, что прежде чем стать текстом, мир был энергией. Прежде чем быть описанным, он – воспринимался. И этот акт непосредственного восприятия, свободный от диктата языка и дискурса, все еще доступен нам. Он называется остановка мира.