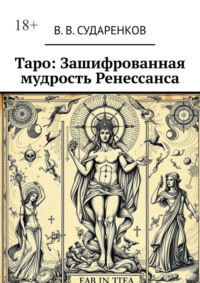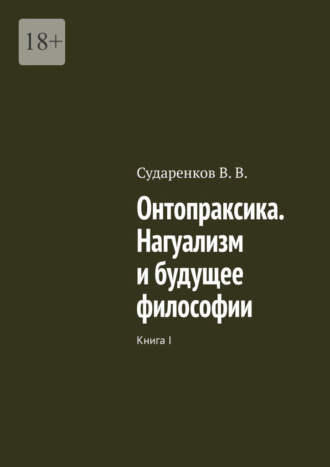
Полная версия
Онтопраксика. Нагуализм и будущее философии. Книга I

Онтопраксика. Нагуализм и будущее философии
Книга I
В. В. Сударенков
© В. В. Сударенков, 2025
ISBN 978-5-0068-6089-6 (т. 1)
ISBN 978-5-0068-6090-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Часть I. Диагноз. В каких тисках находится современная мысль?
Глава 1. Разлом: от удивления к интерпретации
1. Вступление. У истоков – изумление бытием
Представьте на мгновение, что вы – не вы. Ваше имя, профессия, груз прошлого опыта, список дел на завтра – всё это исчезло. Вы – чистое, незамутненное восприятие. Вы открываете глаза, и мир обрушивается на вас не как совокупность знакомых объектов – «стол», «стул», «окно» – а как фейерверк невероятной интенсивности: пульсирующие узоры света и тени, симфония звуков без названий, поток ощущений, которые еще не были отсортированы на «приятные» или «болезненные». Вы не мыслите этот мир, вы поглощены им. Вы и есть этот акт поглощения.
Этот опыт, столь знакомый каждому младенцу и столь тщательно вытравляемый из нас процессом социализации, является тем самым пра-феноменом, с которого началась философия. Не с вопроса, не с теории, а с состояния ошеломленного, безмолвного изумления (θαυμάζειν – «thaumazein», как назовут это греки). Это когнитивный и эмоциональный шок от самого факта того, что нечто существует. Мир есть. И я, это воспринимающее, есмь в нем.
Великий Альфред Норт Уайтхед как-то заметил, что вся европейская философия – это не более чем ряд сносок к Платону. Я бы осмелился уточнить: вся философия – это серия все более изощренных попыток описать тот первоначальный шок, который испытывали не Платон или Аристотель, а досократики. Попыток, которые, как это ни парадоксально, привели нас к тому, что мы почти полностью утратили способность его переживать. Мы подобны картографам, которые, создав грандиозный, детализированный атлас, забыли, как пахнет ветер с океана, какова на вкус морская соль и как дрожит палуба под ногами в шторм. Атлас стал реальностью. Карта подменила территорию.
Психология изумления: Нейропластичность до кантианских категорий.
Чтобы понять радикальность этого изумления, полезно обратиться к современной психологии и нейронауке. Мозг ребенка в первые месяцы жизни – это какофония неотсортированных сенсорных сигналов. Нейронные сети находятся в состоянии гиперпластичности; они еще не выстроили устойчивые паттерны для фильтрации и категоризации входящего потока данных. Не существует жесткой границы между «я» и «не-я». Опыт является целостным и непосредственным.
Жан Пиаже, описывая стадии когнитивного развития, говорил о сенсомоторной стадии, где знание о мире конструируется через физическое взаимодействие с ним, а не через внутренние репрезентации. Это близко к тому, о чем говорят досократики. Их высказывания – это не абстрактные теоремы, выведенные в тиши кабинетов, а скорее голографические отпечатки этого «сенсомоторного», допонятийного контакта с универсумом. Их мысль еще не отделилась от материи, логос – от физиса.
Когда Гераклит из Эфеса провозглашает: «Всё течет» (Πάντα ῥεῖ), он не предлагает умозрительную концепцию. Он фиксирует непосредственное восприятие реальности как непрерывного процесса, становления, потока. Попробуйте сами: остановитесь на мгновение и попытайтесь увидеть не «дерево», а постоянно меняющийся под дуновением ветра узор света и тени, пульсацию соков под корой, медленное, невидимое глазу движение роста. Вы почувствуете отголосок гераклитовского переживания. Это знание, идущее от всего существа, а не только от рассудка. Это знание-как-ощущение.
С нейропсихологической точки зрения, их мышление можно описать как работу с минимально отфильтрованным сенсорным потоком, где префронтальная кора, ответственная за сложные абстракции, планирование и самоконтроль, еще не доминировала над лимбической системой и сенсорными областями. Их высказывания рождались в своего рода гибридном состоянии – между сырым восприятием и зарождающейся концепцией. Они не столько думали о мире, сколько позволяли миру думать через них.
Философ и ребенок: Параллельные вселенные восприятия.
В этом контексте параллель между философом-досократиком и ребенком перестает быть просто милой метафорой. Она становится строгим эпистемологическим аргументом. И тот, и другой находятся в состоянии «открытой осознанности» (open awareness), когда внимание не сужено заранее заданными категориями, а широко распахнуто навстречу новизне. Психолог Эллен Лангер называет это «mindfulness» – состоянием, в котором мы активно конструируем новые категории, а не действуем на автопилоте старых.
Ребенок, видя луну впервые, не говорит: «Это естественный спутник Земли, диаметром примерно в 3474 км». Он может сказать: «Светящийся круг», «Блин на небе», «Глаз ночи». Его восприятие свободно от диктата готовых описаний. Оно поэтично и, в строгом смысле, феноменологично. Оно схватывает суть явления в его явленности, до его научной интерпретации.
Досократики были такими «взрослыми детьми» европейского духа. Фалес, утверждающий, что «всё есть вода», не был наивным простаком. Он пытался найти язык для выражения ощущения фундаментального единства всего сущего, его текучести и изменчивости. Вода – это прообраз потока, перво-материя, которая не имеет своей жесткой формы, но принимает форму любого сосуда. Это гениальная метафора, рожденная из непосредственного созерцания природы, а не из логических умозаключений.
Трагедия и триумф начала: Невозможность выражения.
Однако здесь же кроется и трагедия. Изначальный шок бытия по своей природе невыразим. Он до-вербален, до-концептуален. Любая попытка облечь его в слова – будь то «вода», «апейрон» или «логос» – уже является предательством его непосредственности. Это первый, неизбежный шаг от территории к карте. Сам акт философствования содержит в себе семя будущего отчуждения.
Мы можем провести параллель с попыткой описать вкус манго тому, кто его никогда не пробовал. Вы можете говорить о сладости, о текстуре, об аромате – но все это будут лишь указатели, знаки, отсылающие к чужому опыту. Прямое знание вкуса манго не передается через слова. Досократики находились в положении людей, впервые попробовавших манго и отчаянно пытающихся найти слова для этого опыта. Их фрагменты – это не законченные теории, а крики изначального удивления, застывшие в истории мысли.
Таким образом, вступление в философию – это не начало спокойного, рационального дискурса. Это погружение в бурный океан непосредственного переживания, которое еще не научилось лгать себе и прятаться за ширмой понятий. Это момент предельной честности ума перед лицом непостижимого факта существования.
Именно это изначальное, животрепещущее удивление мы, наследники тысячелетий интерпретаций, почти полностью утратили. Наша задача в этой главе – не просто констатировать этот факт, а пройти обратный путь: от застывших, мертвых схем к тому живому источнику, из которого они когда-то вышли. Понять, где и как произошел разлом – тот трагический и, возможно, неизбежный раскол между опытом бытия и его описанием, который определил судьбу западной мысли и привел ее к современному тупику. Мы начинаем наше исследование с этой точки высшего напряжения, с момента, когда мысль, подобно искре, вспыхнула из тьмы не-знания, не подозревая, что ее собственный свет когда-нибудь станет ее тюрьмой.
2. Первый поворот: От Космоса к Логосу – рождение мета-уровня
Если досократики были свидетелями, чей взгляд, широко открытый изумлением, был обращён вовне – на звёзды, океаны, смену времён года и само вещество бытия, – то с фигур Сократа и, в особенности, Платона в европейском сознании происходит фундаментальный, можно сказать, тектонический сдвиг. Взгляд философа, этот луч осознания, медленно и неумолимо разворачивается от созерцания внешнего универсума к исследованию внутреннего ландшафта самого сознания. Вопрос «Что есть мир?» – наивный, тотальный, экзистенциальный – трансмутируется в вопрос иного порядка: «Что есть Истина? Что есть Справедливость? Что есть Благо?». Происходит колоссальное перемещение фокуса: с Космоса (κόσμος) – упорядоченного, физического мира – на Логос (λόγος) – слово, смысл, разум, принцип. Это и есть тот самый «первый поворот», который на тысячелетия определил судьбу западной мысли, воздвигнув между человеком и миром ту самую «стену из зеркал», о которой мы говорили.
Сократ: «Познай самого себя» как поворотный пункт
Сократ, этот «овод» афинского полиса, своим знаменитым «познай самого себя» (γνῶθι σεαυτόν) совершает революцию, последствия которой мы переживаем до сих пор. Внешне его метод – майевтика, «повивальное искусство» для истины, рождающейся в диалоге, – кажется продолжением натурфилософских споров. Но суть радикально иная. Сократа не интересует, из чего сделан мир. Его интересует, из чего сделан мыслящий мир. Его объект – не природа, а человеческая душа (ψυχή), её структура, её добродетели, её заблуждения.
С психологической точки зрения, сократический поворот – это момент рождения рефлексивного сознания в его полной мере. Это переход от сознания, направленного на объект, к сознанию, способному сделать объектом самого себя. Если досократик был подобен учёному, проводящему эксперименты в лаборатории мира, то Сократ – это психолог, устроивший кабинет в собственной голове и приглашающий туда на сеанс всех желающих. Он исследует не деревья и камни, а сами концепции, с помощью которых мы эти деревья и камни осмысливаем: что мы подразумеваем, когда говорим «храбрость»? Что скрывается за словом «справедливость»?
Этот сдвиг имел колоссальные последствия. Внешний мир, «Космос», начинает терять свой статус первичной и единственной реальности. Реальностью высшего порядка начинает объявляться мир понятий, мир смыслов. Рождается то, что мы в рамках нашей нарративной структуры называем Тоналем – миром описания. Но в платоновской версии этот Тональ приобретает черты не просто социального договора или лингвистической конвенции, а онтологической сверхреальности.
Платон: Рождение мира Идей и раскол реальности
Платон, гениальный систематизатор идей своего учителя, доводит этот поворот до его логического – и, надо сказать, грандиозного – апогея. Он возводит здание, которое стало прообразом всего западного идеализма: теорию Идей (или Эйдосов). Согласно Платону, тот мир, который мы воспринимаем органами чувств, – мир деревьев, столов, людей – является лишь бледной, искажённой тенью, несовершенной копией мира подлинного, мира Идей.
Давайте на минуту остановимся и вдумаемся в радикальность этого жеста. Платон онтологизирует процесс категоризации. Тот факт, что наш разум способен объединять множество разных столов под одним понятием «стол», свидетельствует, по Платону, не о свойствах нашего ума (как мы бы сказали сегодня, с позиций когнитивной науки), а о существовании трансцендентного, вечного и неизменного Прообраза Стола – Идеи Стола. Все прекрасные вещи причастны Идее Красоты, все справедливые поступки – Идее Справедливости.
Психологически это можно интерпретировать как грандиозный проективный механизм. Человеческая способность к абстракции, к формированию ментальных концептов, проецируется вовне и обретает статус самостоятельного божественного бытия. Наш внутренний, ментальный инструментарий – категории, понятия, идеалы – объявляется более реальным, чем та сырая, чувственная данность, которую он призван упорядочивать. Нагваль – неописуемый, хаотичный, непосредственный поток бытия – объявляется низшей, «теневой» реальностью. А Тональ – кристально чистый, упорядоченный мир Идей – становится подлинным домом для философа.
Вот она, кульминация поворота: философ поворачивается спиной к океану бытия и начинает с величайшим тщанием изучать его карту, в конце концов объявив карту единственно подлинной территорией.
Аллегория Пещеры: Психотерапия западного человечества
Знаменитая платоновская «Аллегория Пещеры» – это не просто красивая метафора. Это точнейшее описание психологической динамики этого поворота. Узники, прикованные в пещере и видящие лишь тени на стене, – это человечество, погружённое в мир чувственных восприятий, в «низший» Тональ социальных условностей и мнений (δόξα). Освобождение узника, его мучительный поворот к свету и последующее прозрение истинной реальности снаружи – это и есть путь философа, восходящего от мира вещей к миру Идей.
Но давайте зададимся провокационным вопросом: а что, если тот «истинный мир» снаружи пещеры – это не мир платоновских Идей, а как раз тот самый изначальный Нагваль, который досократики пытались описать? Что, если ослепительное солнце – это не символ абстрактного Блага, а метафора того самого невыразимого энергетического потока бытия, который невозможно ухватить в сети концептов? В таком случае, платоновский философ, выбравшись из пещеры социального Тоналя, попадает не в «подлинную реальность», а в другой, более изощрённый Тональ – Тональ чистых абстракций, который он по ошибке принимает за конечную цель.
С точки зрения психологии развития, платоновский поворот можно сравнить с переходом от конкретно-операционального мышления (по Пиаже) к формально-операциональному. Подросток, открывающий для себя мир абстрактных понятий – справедливость, свобода, истина, – часто переживает это как озарение, как открытие «подлинного» мира за миром конкретных вещей. Он может с пренебрежением относиться к «низменной» материальной реальности, целиком погружаясь в мир идей. Платон доводит эту юношескую особенность мышления до уровня грандиозной метафизической системы.
Когнитивные последствия: Удвоение мира и гносеологическая тревога
Платоновский поворот имел одно фундаментальное и тревожное последствие: он удвоил мир. Отныне реальность раскололась на две онтологические сферы: мир умопостигаемый (νοητός τόπος) и мир чувственный (αἰσθητός τόπος). Между человеком и непосредственным опытом встал посредник – Идея. Чтобы познать дерево, нужно сначала помыслить Идею Дерева. Чтобы действовать справедливо, нужно созерцать Идею Справедливости.
Это породило то, что можно назвать «гносеологической тревогой». Прямой, доверчивый контакт с миром, характерный для досократиков, был утрачен. Вместо него возникла проблема: как конечному, заблуждающемуся человеческому разуму достичь бесконечного, совершенного мира Идей? Родилась теория припоминания (анамнесис), согласно которой наша душа уже знала Идеи до рождения, а изучение – это всего лишь процесс вспоминания. Это гениальное, но отчаянное решение, которое лишь подчёркивает глубину пропасти, возникшей между человеком и реальностью.
В современной когнитивной науке мы бы сказали, что Платон совершил ошибку реификации – он принял ментальные конструкции, продукты работы нашего мозга по категоризации мира, за независимо существующие сущности. Наша нейронная сеть, эволюционно настроенная на выявление паттернов и создание прототипов, была им гипостазирована, превращена в божественный план мироздания.
Эпистемологический разрыв и его экзистенциальная цена
Таким образом, первый поворот, осуществлённый Сократом и Платоном, был не просто сменой тематики философских бесед. Это был эпистемологический разрыв колоссального масштаба. Философия из прямого, пусть и наивного, вопрошания бытия превратилась в саморефлексивную деятельность по упорядочиванию собственных ментальных содержаний.
Цена этого поворота – отчуждение. Мир как непосредственный опыт, как Нагваль, начал отдаляться, становиться подозрительным, «неподлинным». Подлинность была перенесена в умозрительное царство, доступное лишь немногим избранным – философам. Родился идеал созерцательной жизни (βίος θεωρητικός), жизни, посвящённой не взаимодействию с миром, а размышлению о его «истинных» основах.
Это создало парадоксальную ситуацию: чем больше философ углублялся в себя, в свои концепции, тем дальше он уходил от того изначального изумления перед феноменом существования, с которого всё началось. Изумление перед бытием сменилось изумлением перед мощью собственного разума, способного выстраивать такие грандиозные конструкции, как мир Идей.
Мы до сих пор живём в тени этого поворота. Наша наука, наша этика, наше представление о знании несут на себе неизгладимую печать платонизма. Это наследие – одновременно и благословение, и проклятие. Благословение, потому что оно дало нам мощнейший инструмент абстрактного мышления. Проклятие, потому что оно привило нам глубокое недоверие к непосредственному опыту, к телесности, к самой «материи» жизни, заставив искать спасения в царстве «чистых смыслов». И как мы увидим далее, этот раскол будет лишь углубляться, пока не приведёт западную мысль к тому кризису, из которого она ищет выход по сей день.
3. Укоренение разрыва: Аристотель и рождение системы
Если Платон возвел между человеком и миром зеркальную стену Идей, то его величайший ученик, Аристотель, совершил нечто одновременно гениальное и фатальное: он взял этот отраженный мир, этот блестящий Тональ платоновских абстракций, и построил внутри него не просто дом, а целый, строго упорядоченный мегаполис, со своими улицами-категориями, площадями-силлогизмами и иерархией зданий-понятий. Он не оспорил сам факт поворота к Логосу – он его укоренил, систематизировал и, в конечном счете, превратил в единственно мыслимый способ отношения к реальности. С Аристотелем разрыв между непосредственным опытом и его описанием не просто углубляется; он получает свой собственный, автономный статус, свою внутреннюю логику и невероятную объяснительную мощь, которые на два тысячелетия определили траекторию западной науки и философии.
От трансцендентного к имманентному: Критика Идей и рождение Категорий
Аристотель, в отличие от своего учителя, был эмпириком в том изначальном, доплатоновском смысле слова. Его беспокоил тот же разрыв, который создал Платон: если Идеи находятся в некоем запредельном мире, то как они могут объяснить что-либо здесь, в мире становления? Его знаменитая критика теории Идей – это не бунт против системности, а поиск более надежного фундамента для самой системы. Он не отрицает необходимость универсалий; он отрицает их трансцендентность.
В ответ Аристотель совершает свой коронный ход: он переносит форму (εἶδος – «эйдос», то же слово, что и «идея» у Платона) внутрь самих вещей. Форма не парит над миром; она имманентна ему, она – его организующий принцип, его сущность. Дуб – это дуб не потому, что он причастен трансцендентной Идее Дуба, а потому, что в самом его семени заложена форма (логос) дуба, которая актуализируется в материи, проходя путь от потенции (δύναμις) к действительности (ἐνέργεια).
Это был шаг назад к миру, к Нагвалю, но шаг, совершенный с инструментарием, отточенным в мире Тоналя. Аристотель не предлагает вернуться к досократовскому изумлению; он предлагает описать мир с помощью беспрецедентно сложной и совершенной сетки понятий. И здесь рождается его главное детище – система категорий.
Категории Аристотеля (сущность, количество, качество, отношение, место, время, положение, обладание, действие, страдание) – это не просто классификация слов. Это, по его замыслу, фундаментальные способы бытия, модусы, в которых реальность является нашему уму. Это попытка выявить скелет самой мысли, каркас, на который нанизывается любой возможный опыт. С психологической точки зрения, Аристотель интуитивно нащупал то, что когнитивная наука начала изучать лишь в XX веке: наши базовые когнитивные схемы, глубинные структуры, через которые мы дробим и осмысливаем непрерывный поток восприятия.
Проблема, однако, заключалась в том, что, будучи выявленными и описанными, эти схемы обрели самостоятельную жизнь. Аристотель создал не просто инструмент для анализа мира; он создал прото-Тональ научного мышления – самодостаточную, логически замкнутую систему описания, внутренняя непротиворечивость которой могла стать (и стала) критерием ее истинности.
Органон: логика как герменевтический круг
Создание «Органона» – свода логических трактатов – стало актом, окончательно закрепившим разрыв. Аристотель формализовал сам процесс мышления, превратив его в предмет изучения и в инструмент. Силлогизм – эта совершенная машина для вывода нового знания из уже имеющегося – был величайшим интеллектуальным изобретением. Но он же и ограничил сферу того, что может быть признано «знанием», рамками самой логической системы.
Возник своего рода герменевтический круг, но не текста, а реальности: чтобы понять мир, нужно применить к нему логические категории, но сами эти категории были выведены из определенного, уже отфильтрованного и препарированного, опыта мира. Прямое, не опосредованное логикой восприятие – тот самый канал к Нагвалю – было по определению исключено из сферы «научного». Оно объявлялось «мнением» (δόξα), в противовес «знанию» (ἐπιστήμη), которое могло быть только логически обоснованным.
Нейрофизиологически это можно описать как триумф левополушарного, аналитического мышления. Левое полушарие, специализирующееся на категоризации, логике, последовательном анализе и языке, получило у Аристотеля свой magna carta. Оно научилось не просто обрабатывать данные, поставляемые правым полушарием (целостным, образным, синтетическим), но и диктовать ему, что является «реальным», а что – нет. Нагваль, с его бесконечной сложностью и парадоксальностью, насильно втискивался в прокрустово ложе категорий.
Энтелехия и «Лестница природ»: система как замена опыта
Аристотелевская физика и биология – это апогей его систематизирующего гения. Его учение о четырех причинах (материальной, формальной, действующей и целевой), концепция энтелехии (полной актуализации потенции) и «Лестница природ» (Scala Naturae) – это попытка описать весь универсум как единую, иерархически организованную, целесообразную систему.
Это грандиозно. Это дает уму невероятное чувство понимания и контроля. Мир перестает быть угрожающим хаосом; он становится упорядоченным космосом, в котором у всего есть свое место и своя цель. Желудь стремится стать дубом, камень падает вниз, к своему естественному месту, а человек реализует свою сущность через жизнь в соответствии с разумом.
Но за эту упорядоченность пришлось заплатить ту же цену – овеществление мыслительных конструкций. «Целевая причина» – это не наблюдаемый факт, это интерпретация, проекция человеческого представления о цели на безличные природные процессы. «Лестница природ» – это не описание экoсистемы, а ценностная иерархия, отражающая определенные культурные представления.
Аристотель, сам того не желая, создал мощнейший фильтр. Явления, не укладывавшиеся в его систему (например, случайность, хаос, радикальная новизна), либо игнорировались, либо насильно втискивались в нее. Мир стал удобным для понимания, но это был уже не живой, дышащий Нагваль, а его таксономическая музейная коллекция.
Психологические последствия: интериоризация системного мышления
Самый глубокий эффект аристотелианской революции – это интериоризация системного подхода. Он стал не просто одним из методов мышления; он стал самим способом мышления для западного человека. Мы научились дробить мир на дискретные объекты, классифицировать их, выстраивать причинно-следственные цепочки, искать цели и функции.
Это породило то, что можно назвать «аристотелевским неврозом» – подсознательную потребность в порядке, классификации и логической ясности. Беспорядок, амбивалентность, парадокс стали вызывать у нас когнитивный дискомфорт. Наша психика стала воспроизводить аристотелевскую структуру: мы выстраиваем иерархии в своих социальных отношениях, ищем «сущность» своей личности, пытаемся определить «цель» своей жизни.
Современная когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), например, во многом является аристотелевским проектом: она помогает клиенту выявить нелогичные, «дисфункциональные» мыслительные схемы (категории) и заменить их на более рациональные и адаптивные. Это работает. Но это работает в рамках определенного, аристотелевского по своей сути, понимания разума как логической машины.
Наследие: Между инструментом и тюрьмой