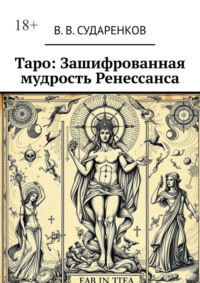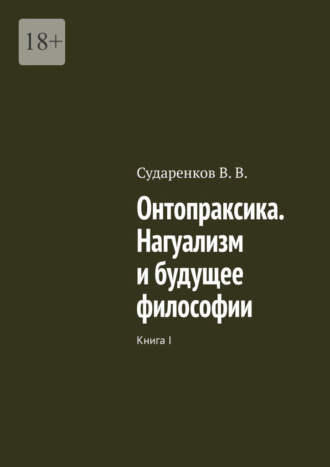
Полная версия
Онтопраксика. Нагуализм и будущее философии. Книга I
Этот радикальный релятивизм находит свое развитие в XX веке.
* Жак Деррида и его деконструкция наносят сокрушительный удар по самой возможности какого-либо устойчивого смысла. Деррида показывает, что любой текст содержит в себе внутренние противоречия, «следы» других текстов, и его значение не присутствует в нем, а вечно ускользает, «откладывается» (différance) в бесконечной игре означающих. Не существует выхода из текста, из языка. Мы всегда уже находимся внутри гигантской библиотеки, где одна книга отсылает к другой, и так до бесконечности. Реальность как таковая растворяется в интертекстуальности. Это философское оформление того, что мы называем лабиринтом зеркал: каждое зеркало отражает другие зеркала, создавая иллюзию бесконечной глубины, но не имея выхода вовне.
* Мишель Фуко смещает фокус с текста на дискурс и власть. Он демонстрирует, что то, что мы считаем «истиной», «нормальностью» или даже собственной идентичностью, является продуктом исторически сложившихся дискурсивных практик. Безумие, сексуальность, преступность – это не природные данности, а конструкции, произведенные властью, которая не просто подавляет, но и производит реальность. «Человек» для Фуко – это не вечная сущность, а недавнее изобретение, «лицо, нарисованное на прибрежном песке», которое вот-вот смоет волной. Таким образом, не только внешний мир, но и внутренний мир «я» оказывается иллюзией, эффектом власти-знания.
Психология постмодернистского субъекта: расщепление и пустота
Триумф интерпретации в его постмодернистской версии порождает специфический тип субъективности – децентрированного, рассеянного субъекта. Если для Декарта «я» было точкой опоры, а для Канта – трансцендентальным единством апперцепции, то для постмодерна «я» – это временный, неустойчивый эффект языковых игр, дискурсивных позиций и симулякров.
С клинической точки зрения, это создает почву для распространения пограничного расстройства личности как культурного феномена. Характерные для него симптомы – диффузная идентичность, хроническое чувство опустошенности (emptyness), страх быть поглощенным и нестабильные межличностные отношения – являются точным отражением постмодернистского состояния: «я» не ощущает себя цельным, потому что оно и не цельно; оно есть лишь поверхность, на которой сталкиваются чужие дискурсы.
Возникает то, что психолог Кеннет Герген назвал «перегруженным Я» (saturated self) – сознание, перенасыщенное множеством конкурирующих голосов, ролей и реальностей, утратившее способность к целостному переживанию. Жизнь в лабиринте зеркал, где всё – интерпретация, приводит к экзистенциальной тошноте, к ностальгии по чему-то настоящему, по «реальному реальному», по Нагвалю, который был так безжалостно объявлен несуществующим.
Тупик: бесконечное скольжение и экзистенциальный голод
Таким образом, триумф интерпретации оборачивается глубочайшим тупиком. Философия, начавшая с изумления перед бытием, пришла к изумлению перед бесконечной пластичностью своих собственных конструкций. Мы оказались в ситуации, которую Жан Бодрийяр описал как гиперреальность – реальность, полностью замещенная симулякрами, знаками, отсылающими лишь друг к другу.
Логическим завершением этого пути является радикальный релятивизм, где любая интерпретация имеет право на существование, ибо нет никакого вне-интерпретационного критерия для их проверки. Фашистский дискурс оказывается столь же «истинным», как и гуманистический, ибо оба – лишь языковые игры, воля к власти или эффекты дискурса.
Но человеческая психика не может долго существовать в таком вакууме. Она испытывает экзистенциальный голод по чему-то подлинному, по непосредственному опыту, по тому, что нельзя свести к интерпретации. Этот голод – ностальгия по Нагвалю. Именно из этого тупика, из этой тоски по «остановке мира», по прорыву за пределы бесконечного скольжения означающих, и рождается запрос на тот праксис, который предлагает нагуализм. Постмодерн, доведя логику Тоналя до абсолюта, невольно указал на его пределы и подготовил почву для его трансценденции. Он показал, что дно кроличьей норы достигнуто, и единственный выход – не продолжать копать, а совершить прыжок в совершенно иное измерение опыта.
7. Заключение: карта тупика как отправная точка
Наше путешествие по лабиринтам западной мысли подошло к своего рода кульминации – не к разрешению, но к ясному и недвусмысленному диагнозу. Мы прошли путь, который можно описать как великое и трагическое смещение фокуса: от напряженного, почти животного удивления перед самим фактом существования – к изощренному, саморефлексивному изумлению перед сложностью наших же собственных мыслей о существовании. Этот путь, если взглянуть на него с высоты птичьего полета, представляет собой не линейный прогресс, а скорее спираль, каждый виток которой все дальше уводил нас от исходной точки, от того, что в терминах нагуализма мы называем Нагвалем – неописуемым, непосредственным потоком бытия.
Резюме пути: три великих отчуждения
Давайте вновь, уже в сжатой форме, пробежимся по этому маршруту, чтобы ощутить его неумолимую логику.
1. Досократики находились в состоянии первичного, допонятийного контакта с Нагвалем. Их высказывания были не теориями, а следами потрясения, попытками выразить невыразимое. Их мысль была неотделима от опыта, их логос – от физиса.
2. Сократовско-платоновский поворот стал первым и решающим шагом к отчуждению. Взгляд философа развернулся от мира к понятиям о мире. Родился Тональ как самостоятельная реальность – мир Идей, объявленный более истинным, чем мир вещей. Между человеком и бытием встал посредник – концепция.
3. Аристотель систематизировал этот разрыв, построив из понятий стройный и могущественный замок Логоса. Его категории и логика стали прочным каркасом Тоналя, инструментом невероятной силы, который, однако, мог работать лишь с тем, что уже было пропущено через его фильтры. Критерием истины стала не соответствие опыту, а внутренняя непротиворечивость системы.
4. Средневековая схоластика довела автономизацию Тоналя до абсолюта, поместив его в основание теологии. Реальностью высшего порядка стал авторитетный Текст, а герменевтическая деятельность по его истолкованию подменила собой исследование мира. Нагваль был объявлен греховным и подозрительным.
5. Новое время, с его мнимым возвратом к опыту, на деле лишь сменило тюремщика. Эмпирики низвели опыт до набора ощущений, а Декарт расколол реальность на мыслящую субстанцию и протяженную, породив неразрешимую проблему репрезентации. Мы оказались «призраками в машине», навеки отрезанными от внешнего мира стеной наших же ментальных образов.
6. Немецкая классика и постмодерн поставили точку в этом процессе. Кант объявил «вещь-в-себе» непознаваемой, Гегель растворил всю реальность в саморазвитии Абсолютной Идеи, а постмодернисты (Ницше, Деррида, Фуко) провозгласили, что за бесконечной игрой интерпретаций, дискурсов и симулякров ничего нет. Тональ окончательно поглотил Нагваль, объявив его иллюзией.
Общий паттерн: триумф посредника
Сколь бы разными ни казались эти эпохи, их объединяет один фундаментальный паттерн: триумф посредника. Сначала между человеком и миром встала Идея (Платон), затем – Система (Аристотель), затем – Авторитетный Текст (Схоластика), затем – Чувственное Впечатление (Эмпиризм), затем – Трансцендентальная Структура Сознания (Кант) и, наконец, – Язык и Дискурс (Постмодерн). На каждом этапе философия, пытаясь преодолеть ограничения предыдущего посредника, порождала нового, еще более изощренного.
В результате мы получили невероятно сложную, богатую, изощренную культуру интерпретации, но при этом практически полностью утратили способность к непосредственному контакту с тем, что интерпретируется. Мы создали грандиозную карту, но разучились ходить по территории. Более того, мы начали сомневаться в самом существовании территории, объявив карту единственной реальностью.
Психологическая цена: когнитивное отчуждение и экзистенциальный голод
Психологические последствия этого пути глубоки и трагичны. Западный человек, наследник этой традиции, страдает от тотального когнитивного отчуждения. Он ощущает себя одиноким сознанием, запертым в черепной коробке, взирающим на внешний мир через ненадежные оконца чувств и искажающие призмы концепций. Его «я» либо является сомнительной субстанцией (Декарт), либо вовсе рассыпается в пучок восприятий (Юм) или эффект дискурса (Фуко).
Это порождает фундаментальный экзистенциальный голод – тоску по чему-то подлинному, по непосредственному переживанию, по реальности, которая была бы дана нам не через посредника, а напрямую. Этот голод проявляется в самых разных формах: от ностальгии по «настоящему» в искусстве и культуре до всплеска интереса к восточным мистическим практикам, психотерапии, ориентированной на телесность, и энактивным подходам в когнитивной науке, которые пытаются вернуть сознание в мир как активного участника.
Мы устали от интерпретаций. Мы исчерпали потенциал «думания о мире». Лабиринт зеркал, в котором мы блуждаем, красив, но он безысходен. Он не дает нам ни пищи, ни опоры, ни выхода.
Мост к спасению: возврат к опыту на новом уровне
Именно здесь, в этой точке предельного отчаяния, и возникает возможность для подлинного прорыва. Диагноз, который мы поставили, – это не приговор, а отправная точка. Он показывает, что дальнейшее движение по пути усложнения интерпретаций бессмысленно. Нужен не новый виток в спирали, а радикальный прыжок за ее пределы.
Но этот прыжок – не возврат к наивности досократиков. Мы не можем просто стереть две с половиной тысячи лет истории мысли и снова стать детьми, глядящими на мир с изумлением. Наш разум слишком испорчен рефлексией, слишком опутан сетями Тоналя. Нам нужен метод, способ, праксис.
Нам нужен осознанный, дисциплинированный и методологический возврат к допонятийному опыту. Нам нужно научиться не думать о мире, а чувствовать его. Не интерпретировать его, а вступать с ним в прямой, не опосредованный словами и концепциями диалог. Нам нужно найти способ «остановить» наш внутренний диалог – этот непрерывный поток вербализации и категоризации, который и является главным стражем Тоналя, удерживающим нашу точку сборки в жесткой фиксации.
Именно здесь философский проект с необходимостью должен превратиться в проект психологический и духовный. Речь идет не об изучении новых теорий, а о трансформации самого инструмента познания – нашего собственного восприятия. Нам предстоит проделать работу, обратную той, что проделала западная философия: не строить новые стены между собой и миром, а последовательно разбирать старые, кирпич за кирпичом.
Приглашение к путешествию
Таким образом, эта глава заканчивается не выводом, а приглашением. Мы детально картографировали тупик. Мы поняли его природу, его историю и его психологическую цену. Теперь эта карта тупика становится нашей главной путеводной картой. Она показывает, куда не стоит идти. А куда стоит?
Чтобы ответить на этот вопрос, нам предстоит в последующих главах детально исследовать конкретные проявления этого тупика: картезианскую рану, породившую неразрешимую проблему сознания (Глава 2), и лингвистическую тюрьму, в которую нас заключил постмодерн (Глава 3). Только поняв анатомию наших цепей, мы сможем найти ключ к их отпиранию.
Но уже сейчас ясно: спасение лежит не в области мышления, а в области бытия. Не в том, чтобы найти окончательную интерпретацию, а в том, чтобы обрести способность на время отключить интерпретацию вообще и прикоснуться к миру таким, каков он есть до всякого описания. Это и есть тот самый прорыв к Нагвалю, тот самый выход из платоновской пещеры, который ведет не к другому, более абстрактному Тоналю (миру Идей), а к ослепительному, невыразимому сиянию самой реальности.
Наше путешествие только начинается. И его первый, самый трудный шаг – это признать, что мы заблудились, и перестать делать вид, что блуждание по знакомым коридорам лабиринта когда-нибудь выведет нас на свободу.
Глава 2. Картезианская рана: Призрак в машине
1. Вступление: момент радикального сомнения
Представьте себе холод. Не просто физический холод, а тот, что проникает в самые основы мысли, тот, что заставляет ум сжиматься в поисках хоть какого-то тепла, хоть какой-то незыблемой точки опоры. Зима 1619 года. Молодой Рене Декарт, солдат и философ, заперся в своей «печке» – на самом деле, вероятно, хорошо протопленной комнате, но в историю сознания он вошел именно как отшельник у очага. Внешний мир – с его войнами, религиозными распрями, шаткостью всякого авторитета – был отринут. Оставалось только сомнение. Тотальное, методическое, беспощадное.
Это был акт невероятного интеллектуального мужества, роднящий философа с мифическим героем, добровольно спускающимся в царство мертвых. Декарт решился отбросить всё: показания чувств (они обманчивы), логические построения (можно ошибиться даже в простейшем сложении), даже уверенность в существовании собственного тела и внешнего мира (все это могло быть хитрой иллюзией, навязанной ему неким «злым гением»). Он подвергал сомнению саму ткань реальности, нитку за ниткой распуская полотно привычного мира, в котором мы живем, не задумываясь. Что останется, когда не останется ничего?
И вот, в этой ледяной пустоте, рождается формула, которая на столетия определит судьбу западной мысли: Cogito, ergo sum. «Мыслю, следовательно, существую». Кажется, это триумф. Фундамент найден! Наконец-то обнаружена та скала, на которой можно воздвигнуть новое, несокрушимое здание знания. Сам акт сомнения доказал существование того, кто сомневается. Сознание, мыслящая субстанция, оказалось первичной и несомненной данностью.
Но давайте остановимся и посмотрим на этот момент не как на триумф, а как на трагедию. Или, если угодно, на хирургическую операцию, проведенную без анестезии, после которой пациент навсегда утратил целостность. Потому что этот акт освобождения был одновременно актом изгнания. Чтобы доказать существование мысли, Декарту пришлось объявить всё остальное – протяженные объекты, тела, физический мир – вторичным, производным, а в рамках его методического сомнения – и вовсе потенциально несуществующим. Cogito стало не просто фундаментом; оно стало крепостью, башней из слоновой кости, из узкого окна которой мыслящее «я» с тревогой взирало на внешний мир, утративший статус несомненной реальности.
Что же произошло на самом деле в той печи? Произошел Великий Раскол. Мир, который для досократиков был единым, живым Космосом, для средневекового человека – Божьим творением, пронизанным смыслом, – был рассечен надвое. По одну сторону баррикады оказалось res cogitans – мыслящая субстанция: непротяженная, нематериальная, сущностью которой является сознание. По другую – res extensa – протяженная субстанция: мир тел, подчиняющийся механическим законам, мир-машина.
И здесь рождается центральный, роковой для всей новоевропейской философии вопрос: а каков же статус моего тела в этой схеме? Оно – часть этой машины. Но «я», мое сознание, мой «призрак» – очевидно, пребывает где-то внутри него. Так родилась одна из самых мощных и разрушительных метафор в истории идей: «призрак в машине». Сознание стало призрачным, эфемерным пилотом, заброшенным в сложный, но бездушный механизм собственного тела. И немедленно встал вопрос, не дающий покоя философам, нейробиологам и просто мыслящим людям по сей день: как же, черт возьми, этот нематериальный «призрак» управляет материальной «машиной»?
Как воля – эта неуловимая субстанция мысли – заставляет нейроны возбуждаться, а мышцы – сокращаться? Как моё «хочу поднять руку» превращается в физическое движение? Декарт, будучи гением, видел проблему и предложил решение – шишковидную железу (epiphysis), единственный непарный орган мозга, который, по его мнению, и был тем самым местом, где душа взаимодействует с телом. Это была блестящая, но отчаянная и, увы, наивная попытка. Посмеявшись над «шишковидной железой», последующие поколения философов так и не смогли предложить ничего принципиально более убедительного. Мы до сих пор бьемся над этой проблемой, просто называем её теперь «психофизической проблемой» или «трудной проблемой сознания».
Ирония судьбы заключается в том, что Декарт, искавший абсолютную достоверность, создал самую устойчивую в истории философии ловушку недостоверности. Он ранил самосознание Запада. «Картезианская рана» – это не просто академический термин; это ощущение фундаментального разрыва, которое каждый из нас носит в себе, даже не отдавая себе в этом отчета. Мы все – наследники Декарта. Мы интуитивно чувствуем себя «чем-то внутри» тела, неким наблюдателем, запертым в черепной коробке и смотрящим на мир через его «окна» – органы чувств. Мы верим, что наш мозг создает некую «модель» внешнего мира, и мы имеем дело не с миром как таковым, а с этой репрезентацией. Весь наш опыт опосредован, отфильтрован, и мы обречены на познавательное одиночество.
Этот внутренний раскол пронизывает всю нашу цивилизацию. Он – причина многовекового спора между материалистами и идеалистами, между физикалистами и дуалистами. Он породил «трудную проблему сознания» Дэвида Чалмерса: мы более-менее понимаем, как мозг обрабатывает информацию (легкие проблемы), но понятия не имеем, почему эти электрохимические процессы сопровождаются субъективным переживанием, тем, что философы называют «квалиа» – боль от укола, краснота красного, вкус шоколада. Материя молчалива. Как и почему она вдруг «заговорила» в форме моего внутреннего мира? Это прямое следствие картезианского раскола.
С точки зрения той парадигмы, которую мы будем исследовать в этой книге – нагуализма, – проблема эта является не онтологической (то есть не присущей миру самому по себе), а эпистемологической. Это не описание реальности, а описание одной конкретной, весьма жесткой конфигурации восприятия. Дуализм «субъект-объект», «сознание-тело» – это не фундаментальный закон мироздания, а продукт определенного способа «собирать мир», мощная, но частная сборка. Картезианская рана болит не потому, что мир устроен дуалистично, а потому, что мы привыкли воспринимать его именно так, возведя эту привычку в ранг абсолютной истины. Мы зафиксировали нашу «точку сборки» – ключевое понятие из лексикона Кастанеды, которое мы детально разберем позже – в позиции, где раскол является исходной и неоспоримой данностью.
Таким образом, глава, которую вы начали читать, – это не просто историко-философский экскурс. Это попытка диагностировать корень болезни, поразившей наше мышление. Мы будем исследовать анатомию этой раны, проследим, как она кровоточит в самых разных областях – от философии сознания до нейробиологии, и, наконец, посмотрим на нее с точки зрения, которая предлагает не залечивать рану старыми средствами (что лишь приводит к новым осложнениям), а предложить радикально иной способ восприятия, при котором сама дихотомия «призрак/машина» теряет свой смысл.
Но прежде чем мы отправимся в это путешествие, давайте еще раз заглянем в ту самую «печь». Не для того, чтобы осудить Декарта – его жест был титаническим и необходимым этапом в развитии самосознания. А для того, чтобы понять: любая система, любой фундамент, сколь бы прочным он ни казался, рано или поздно становится тюрьмой. Cogito было прорывом, но оно же стало клеткой. И наша задача сегодня – не обустраивать эту клетку с большим комфортом, а найти в себе мужество, подобное декартовскому, чтобы усомниться уже в самом её существовании. Следующим шагом будет исследование того, как стены этой клетки были укреплены и покрыты зеркалами, отражающими лишь самих себя, – а именно, как лингвистический поворот в философии превратил наш разум в вечного узника языка. Но это – тема уже следующей главы.
2. Анатомия раскола: Res Cogitans vs. Res Extensa
Если картезианская рана была нанесена в момент радикального сомнения, то ее анатомия – это результат холодного, методичного рассечения реальности скальпелем логики. Декарт не просто обнаружил раскол; он его институционализировал, возвел в ранг онтологического закона. Чтобы понять глубину и последствия этой операции, мы должны пристально вглядеться в два получившихся препарата – res cogitans и res extensa. Это не просто философские термины; это два полюса, между которыми вот уже четыре столетия разрывается западное мироощущение.
Res cogitans: рождение Призрака
Res cogitans – мыслящая субстанция. Давайте произнесем эту фразу медленно, вдумываясь в каждое слово. Substantia – нечто лежащее в основе, сущность. Cogitans – мыслящая. Итак, сущностью этого начала является мышление. Но что Декарт вкладывал в это понятие? Вовсе не только дискурсивное, логическое рассуждение. Cogitatio для него – это вся совокупность сознательного опыта: сомнение, понимание, утверждение, отрицание, желание, чувство – даже воображение и ощущение, поскольку они осознаются. Это внутреннее пространство, форум внутреннего, где разворачивается вся драма нашей субъективности.
Ключевые свойства res cogitans, делающие его «призраком» в предлагаемой нами метафоре:
1. Непротяженность. Мыслящая субстанция не имеет ни длины, ни ширины, ни высоты. Она не занимает места в пространстве. Ее нельзя локализовать. Где находится моя мысль о числе «пи»? Где пребывает моя тоска? Мы можем указать на мозг, но мозг – это объект, а мысль – нет. Она как математическая точка – имеет положение (приписывается некому «я»), но не имеет измерений. Это фундаментальный разрыв с античной и средневековой традицией, где душа (психе, анима) так или иначе связывалась с жизненным началом, пронизывающим тело.
2. Нематериальность. Вытекает из непротяженности. Если она не в пространстве, то она не состоит из материи. Она – иноприродна физическому миру. Это чистый акт, чистая деятельность, не требующая для своего существования никакого субстрата, кроме себя самой. Cogito – это самодостаточный факт.
3. Неделимость. Материальный объект можно разделить на части. Тело можно рассечь. Res cogitans – нельзя. Сознание либо есть, либо его нет. Его нельзя «разрезать пополам». Эта целостность – еще один аргумент в пользу его принципиально иной природы. Даже если мы представим, что наше сознание дробится, нам нужен некий «мета-наблюдатель», который бы зафиксировал это дробление, что вновь утверждает его единство.
Таким образом, res cogitans – это и есть наше подлинное «Я». Не тело, не мозг, а этот неуловимый, нематериальный центр осознания, который наблюдает, мыслит, сомневается и чувствует. Декарт подарил нам невиданную прежде интеллектуальную автономию, но ценой страшного одиночества. Наше «Я» стало монадой без окон, запертой в самой себе.
Res extensa: мир как Механизм
На противоположном полюсе лежит res extensa – протяженная субстанция. Ее сущность – быть растянутой в длину, ширину и глубину, занимать место. Это мир объектов. И что крайне важно, Декарт распространяет этот принцип на всё материальное: не только на камни и планеты, но и на растения, животных и, что самое радикальное, на человеческие тела.
Здесь проявляется гений Декарта-ученого, предвосхитившего механистическую картину мира. Res extensa подчиняется исключительно законам механики. Все процессы в ней сводятся к движению и столкновению частиц. Тело – не храм духа и не органическое целое, а сложный автомат, «машина», состоящая из рычагов (костей), мехов (легких), трубопроводов (кровеносных сосудов) и клапанов (сердца).
Даже такие сложные явления, как память, эмоции и страсти, Декарт в своей поздней работе «Страсти души» пытался объяснить через механику «животных духов» – мельчайших и быстрых частиц, курсирующих в крови и нервах. Страх – это просто определенное движение «духов», заставляющее сердце сжиматься и ноги бежать. В этой модели нет места субъективному переживанию как чему-то самостоятельному; есть лишь физиологическая реакция машины.
Итак, перед нами две абсолютные, не сводимые друг к другу реальности: