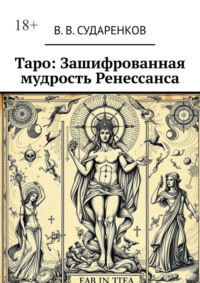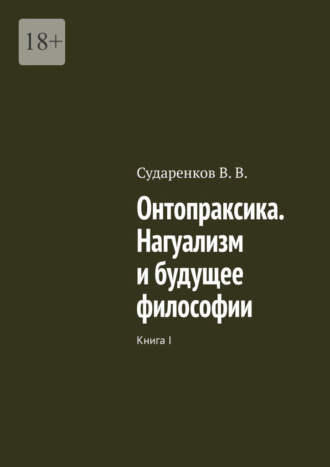
Полная версия
Онтопраксика. Нагуализм и будущее философии. Книга I
Клиент, жалующийся на экзистенциальную пустоту, сегодня с большой вероятностью получит диагноз «депрессия» и рецепт на антидепрессанты. Его страдание будет переведено в биохимическую плоскость. Это не значит, что помощь неэффективна; это значит, что дискурс психиатрии мощно определяет, что считается страданием и как с ним следует бороться, часто исключая из рассмотрения вопросы смысла, отчуждения или социальной несправедливости.
Сила и слабость: достижения и тупики анализа Фуко
Сила теории Фуко неоспорима. Она дает нам острый критический инструмент для вскрытия идеологических механизмов, скрытых в самых, казалось бы, объективных и гуманных институтах. Она показывает, что наша «свобода» зачастую является продуктом тонких стратегий управления, а наша «индивидуальность» – результатом мощных процессов индивидуализации.
Однако и здесь нас поджидает тупик. Если власть вездесуща, если она пронизывает все дискурсы, включая язык критики, то где место для сопротивления? Фуко в поздних работах говорил о сопротивлении как имманентном следствии самой власти – там, где есть власть, есть и сопротивление. Но его теория оставляет мало надежды на возможность подлинно свободного действия, не захваченного логикой власти-знания. Мы оказываемся в ситуации вечной партизанской войны без ясной цели и без представления о том, что может лежать по ту сторону этой войны.
Кроме того, возникает проблема реальности. Если лес вырубают, а постмодернистский философ видит в этом лишь смену «дискурса об экологии» на «дискурс об экономическом развитии», то куда девается сам лес? Куда девается физическая боль голодного человека, если ее можно описать как «дискурс голода»? Фуко рискует повторить ошибку идеалистов, объявив дискурс единственной реальностью.
Взгляд из нагуализма: Социальный Тональ и его стратегии
Для нагуализма анализ Фуко – это блестящее и исчерпывающее описание работы социального Тоналя. Тональ – это остров описания, и Фуко с непревзойденной точностью показал, как этот остров поддерживает свою целостность и подавляет любые попытки его покинуть. Дискурсы, институты, нормализующие практики – все это инструменты, с помощью которых социальный тональ «собирает» реальность, удобную для его воспроизводства. Он создает «нормального человека» так же, как шаман своего племени создает картину мира, – через сильное, коллективно разделяемое описание.
Но нагуализм идет дальше Фуко. Он соглашается, что наша обычная реальность – это конструкт, пронизанный властью. Однако он утверждает, что существует возможность не столько сопротивляться этой власти на ее поле (что, как показывает Фуко, лишь усиливает игру), сколько сдвинуться из этой сборки вовсе.
Практика сталкинга – это искусство видения этих социальных конструкций, этих дискурсивных петель, и осознанного маневрирования внутри них, без полной идентификации с ними. А практика остановки мира – это радикальный уход из поля дискурса в целом, временное разрушение самой ткани социального тоналя для контакта с Нагвалем – с той самой «энергией», которая не подвластна никаким дискурсам и никаким системам власти-знания.
Таким образом, Фуко дает нам безупречную карту тюрьмы. Он показал нам каждого надзирателя, каждый замок, каждую систему слежения. Но он оставил нас внутри, считая, что снаружи – пустота. Нагуализм же шепчет на ухо: карта – идеальна. Но ты можешь научиться проходить сквозь стены.
5. Лабиринт зеркал: сильные и слабые стороны конструкционизма
Мы вошли в лабиринт, тщательно изучили его устройство и восхитились гениальностью его архитекторов. Теперь пришло время остановиться и ощутить на себе последствия жизни в этом блестящем сооружении. Постмодернистский конструкционизм – эта идея, что реальность есть продукт дискурсов, языковых игр и социальных практик – не является просто академической теорией. Это экзистенциальная позиция, ментальная атмосфера, которой мы вынуждены дышать. И как любая атмосфера, она может быть как живительной, так и ядовитой. Ее сила освобождала, ее слабость – парализовала.
Сила: Освобождающая сила сомнения
Давайте отдадим должное тому оглушительному освободительному заряду, который нес в себе конструкционизм. Это был философский эквивалент Великой французской революции, снесшей Бастилию «естественного», «предданного» и «неизменного».
* Разоблачение идеологий. Конструкционизм дал в руки критиков универсальный ключ. Внезапно стало очевидно, что «нормальная семья», «естественные гендерные роли», «объективная история» или «научная раса» – это не божественные или природные установления, а исторически сложившиеся конструкции, служащие чьим-то интересам. Феминизм получил мощнейший инструмент, показав, что патриархат – не биологическая данность, а дискурсивно-социальный конструкт.
* Критика науки. Была подорвана наивная вера в науку как в зеркало природы. Стало ясно, что научные теории – это не чистые отпечатки реальности, а модели, сформированные в определенных парадигмах (Кун), зависящие от метафор и риторических стратегий. Это не умаляло эффективности науки, но заставляло задуматься о ее границах и о тех ценностях, которые она неявно пропагандирует.
* Демократизация истины. Истина была низвергнута с пьедестала. Если истина – это продукт дискурса, а не откровение, то у маргинальных групп – угнетенных классов, колонизированных народов, меньшинств – появляется право на собственный голос, на свою «истину». Монополия сильных мира сего на определение того, что есть реальность, была поставлена под сомнение.
В терапевтическом кабинете это проявилось как переход от патерналистской модели («врач знает лучше») к сотрудничеству. Нарративная терапия, например, прямо построена на идее, что личность и ее проблемы – это не объективные сущности, а истории, которые человек рассказывает о себе. Изменив нарратив, можно изменить реальность. Это давало клиенту невиданную прежде силу и агентность.
Слабость и тупик: Три лика Медузы
Однако, взглянув в лицо Медузе конструкционизма, многие обнаружили, что начинают каменеть. Три ее взгляда породили три фундаментальные проблемы, заведшие мысль в экзистенциальный тупик.
1. Бесконечная регрессия: В поисках твердой почвы.
Если всё – конструкт, то что такое сам конструкционизм? Это не открытие, а лишь еще один дискурс, еще одна языковая игра, претендующая на описание. Она ничем принципиально не лучше и не истиннее любого другого. Критика картезианского «cogito» оборачивается бумерангом: деконструируя все основания, конструкционизм подпиливает сук, на котором сидит. Мы оказываемся в ситуации, которую философ Барри Аллен назвал «эпистемическим свободным падением»: нет земли под ногами, нет критериев, чтобы отличить надежное знание от простого мнения. Это приводит к интеллектуальному нигилизму, где любая позиция одинаково необоснованна.
2. Релятивизм: Этическая пропасть.
Это самый опасный и часто обсуждаемый тупик. Если нет трансцендентного критерия Истины и Добра, то на каком основании мы можем осудить фашизм, расизм или любое другое отвратительное мировоззрение? С точки зрения последовательного конструкционизма, фашистский дискурс – это просто другая языковая игра, альтернативный способ сборки реальности. Любая попытка его критиковать будет опираться на ценности другого дискурса (например, гуманистического), который столь же условен. Возникает паралич моральной и политической воли. Мы становимся зрителями на пире тиранов, способными лишь на ироничную деконструкцию их риторики, но не на реальное сопротивление, ибо для сопротивления нужна вера в нечто, что действительно хорошо, а не просто является нашей локальной конструкцией.
3. Исчезновение реальности: Забвение плоти мира.
Это, пожалуй, самый экзистенциально мучительный аспект. Сводя всё к дискурсу, конструкционизм совершает онтологическое насилие над миром. Лес вырубают, но для постмодернистского теоретика это лишь «смена дискурсов». Голодный ребенок плачет, но его боль интерпретируется как «дискурс голода». Физическое насилие становится «перформативным актом». Реальность отчаяния, боли, любви, телесного опыта – всё это растворяется в тонкой паутине интерпретаций.
В психологии это приводит к любопытному парадоксу. Клиент приходит с панической атакой – с дрожью, учащенным сердцебиением, удушьем. Конструкционистски ориентированный терапевт может начать работать с «нарративом тревоги». Но сама телесность паники – этот животный ужас, который не сводим к словам, – часто упускается из виду. Мы забываем, что человек – это не только текст, но и плоть, не только дискурс, но и биология, не только язык, но и молчание, предшествующее ему. Конструкционизм, борясь с картезианским дуализмом, впал в свою собственную форму идеализма, объявив материю, тело и боль иллюзиями.
Психологический портрет обитателя лабиринта
Каков же психологический профиль человека, полностью принявшего конструкционистскую картину мира? Это часто блестящий, эрудированный, ироничный интеллектуал. Но за этим блеском скрывается глубинная экзистенциальная усталость.
* Преобладание иронии над вовлеченностью. Прямое, искреннее высказывание становится невозможным, ибо оно сразу же деконструируется как наивное. Ирония становится единственно возможным модусом существования, защитной оболочкой от ответственности за свои слова.
* Паралич воли. Если все проекты в равной степени необоснованны, зачем что-либо предпринимать? Развивается то, что психологи называют «learned helplessness» – выученная беспомощность, но уже не на индивидуальном, а на метафизическом уровне.
* Эпистемическая тревожность. Постоянное сомнение во всем, включая основания собственной идентичности, порождает глубокую, фоновую тревогу. «Кто я, если мое „Я“ – всего лишь набор сменяемых нарративов?»
Это состояние прекрасно диагностировал еще сам Ницше, предтеча постмодерна: «Кто убьет Бога, должен сам стать Богом». Но конструкционизм убил Бога и вместо этого предложил нам вечно скользить по зеркальной поверхности, не в силах стать ничем.
Взгляд из нагуализма: Тональ, объявивший себя Богом
С позиции нагуализма, ситуация выглядит иначе, но не менее драматично. Постмодернистский конструкционизм – это кульминация, апофеоз и окончательная победа Тоналя. Тональ, этот остров описания, достиг невероятной степени самосознания. Он не просто описывает мир – он объявил, что мир и есть его описание. Он досконально изучил собственные механизмы, картографировал каждый свой уголок и пришел к выводу, что за его пределами – пустота. Он, по сути, объявил себя Богом.
Нагваль – неописуемое, немыслимое, чистая энергия и потенциальность – был объявлен несуществующим. Лабиринт зеркал – это и есть Тональ, замкнувшийся сам на себя. Каждое зеркало отражает другие зеркала, создавая иллюзию бесконечной глубины, но не имея выхода вовне. Это самодостаточная, самореферентная система, празднующая собственную сложность и отрицающая то, что ее породило.
Именно поэтому все попытки найти «выход» из лабиринта средствами самого лабиринта (новая теория, более изощренная деконструкция) обречены на провал. Это все равно что пытаться вычерпать океан с помощью стакана, который является частью этого океана.
Практика как ответ: Остановка мира
Что же предлагает нагуализм в качестве альтернативы? Не новую теорию, не очередное «описание». Он предлагает праксис. Радикальный шаг, который заключается не в том, чтобы по-новому интерпретировать зеркала, а в том, чтобы разбить их.
Этим шагом является остановка мира (parar el mundo).
Если постмодернизм – это бесконечное усложнение и умножение интерпретаций (внутренний диалог, доведенный до абсолюта), то остановка мира – это приостановка самого процесса интерпретации. Это не создание нового, более «правильного» описания, а временный выход за пределы всякого описания. Это практика тотального молчания ума, которая позволяет восприятию обратиться к тому, что было до языка, до понятий, до дискурса – к прямому, невербализуемому потоку энергетического осознания.
В этом акте лабиринт зеркал рушится не потому, что его деконструировали, а потому, что мы перестали в нем участвовать. Мы обнаруживаем, что были не узниками, а добровольными пленниками, принявшими игру за реальность. И это открытие – не интеллектуальное, а опытное, телесное, энергетическое – является единственным подлинным выходом из тупика, в который завела нас блестящая, но самопожирающая мысль постмодерна.
6. Взгляд из нагуализма: Тональ, объявивший себя Богом
Продиагностировав болезнь западной мысли – от картезианской раны до постмодернистского лабиринта – мы подходим к моменту радикальной терапевтической интервенции. Нагуализм предлагает не просто еще один диагноз и не очередное философское «лекарство» в виде новой системы. Он предлагает отбросить костыли и начать ходить самостоятельно – через практику, через прямой опыт, через то, что мы называем онтопраксикой. С его точки зрения, вся многовековая драма европейской философии – это драма Тоналя, достигшего невероятной изощренности, но впавшего в два фундаментальных заблуждения: он принял свою конструкцию за всю полноту реальности и возвел свой инструмент – язык – в ранг единственного онтологического принципа.
Диагноз: Тональ, заглядевшийся на собственное отражение
Поздний Витгенштейн, Соссюр, Деррида, Фуко – все они, с точки зрения нагуализма, были гениальными картографами. Но они составляли карту одной и той же местности – местности под названием Тональ. Они с изумительной точностью описали его ландшафт: языковые игры, дискурсивные практики, структуры различий, механизмы власти-знания. Их величайшая заслуга в том, что они показали: наш привычный мир – это не «данность», а мощный, коллективный конструкт.
Однако их роковая ошибка заключалась в том, что, увлекшись совершенством своей карты, они объявили, что территории не существует. Они были подобны топографам, которые, создав идеальную карту острова, заключили, что океана вокруг нет. Постмодернизм – это кульминация этого подхода: это Тональ, который, достигнув пика своей рефлексивной сложности, объявил о собственной тотальности. «Всё – текст», «всё – дискурс», «всё – язык» – это триумфальный крик Тоналя, который больше не видит ничего, кроме самого себя.
Лабиринт зеркал – это и есть сам Тональ в его постмодернистской фазе. Это описание, замкнувшееся в самореферентной игре, где каждое зеркало отражает лишь другие зеркала. Проблема «трудной проблемы сознания», кризис репрезентации, экзистенциальный паралич релятивизма – все это симптомы одной болезни: жесткой фиксации точки сборки в позиции, где реальность автоматически отождествляется с ее вербально-дискурсивным описанием.
Лекарство: выход в Нагваль через онтопраксику
Нагуализм соглашается с постмодернистским диагнозом: да, наш обыденный мир – это конструкт. Но он делает следующий, решающий шаг, который постмодернизм сделать не смог или не захотел: он утверждает, что существует нечто за пределами этого конструкта. Это нечто – Нагваль.
Нагваль – это не «другая реальность» в смысле параллельной вселенной. Это сама основа реальности, необъятное, неописуемое энергетическое поле, из которого Тональ, как остров, кристаллизует лишь крошечную, стабильную часть. Нагваль – это мир до языка, до понятий, до разделения на субъект и объект. Это чистая потенциальность и непосредственность.
И здесь происходит ключевой поворот. Постмодернизм, столкнувшись с невозможностью описать Нагваль (ибо любое описание уже будет частью Тоналя), сделал вывод о его несуществовании. Нагуализм поступает иначе. Он предлагает перейти от описания к переживанию. Если Нагваль нельзя помыслить, его можно воспринять.
Именно этому служит практика остановки мира (parar el mundo). Это не метафора, а конкретная дисциплина, направленная на приостановку внутреннего диалога – того непрерывного потока вербализации, который и является цементом, скрепляющим конструкцию обычной реальности. Когда ум замолкает, когда прекращается бесконечный комментарий, интерпретация и категоризация, происходит чудо: точка сборки теряет свою жесткую фиксацию.
В этот момент лабиринт зеркал исчезает не потому, что его деконструировали, а потому, что мы перестали в нем участвовать. Мы выходим из игры Тоналя. И то, что открывается, – это не новое описание, не новая «истина», а прямое, безопосредованное восприятие мира как потока энергии. Это и есть восприятие Нагваля. В этом состоянии исчезает картезианская дихотомия: нет отдельного «наблюдателя» и «наблюдаемого», есть единое энергетическое поле, которое воспринимает само себя. «Трудная проблема» сознания растворяется, ибо исчезает сама оппозиция, в рамках которой она могла быть сформулирована.
Практические следствия: от интерпретации к трансформации
Что это значит для нашего изначального вопроса о природе реальности и знания? Это означает смену парадигмы с эпистемологической на онтопраксическую.
1. Знание-как-информация vs. Знание-как-преобразование. Для постмодернизма знание – это всегда информация, текст, интерпретация. Для нагуализма подлинное знание – это сила, которая трансформирует самого познающего. Познать точку сборки – значит обрести способность ее сдвигать. Это знание не описывает реальность; оно ее пересобирает.
2. Сталкинг как экзистенциальная гигиена. Практика сталкинга – это применение постмодернистской проницательности на службе у онтопраксики. Это искусство видеть социальные дискурсы, языковые игры и ролевые идентичности не как сущности, а как конструкции. Но в отличие от постмодернистского наблюдателя, который лишь иронизирует над ними, сталкер использует это знание для безупречного и осознанного маневрирования внутри них, не отождествляясь с ними полностью. Он видит тюрьму, но использует ее правила для собственной цели, оставаясь внутренне свободным.
3. Сновидение как исследование онтологии. Практика сновидения – это прямое экспериментирование с другими позициями точки сборки. Это эмпирическое исследование того, что постмодернизм признал лишь теоретически: множественность реальностей. Но если для постмодерниста это множественность текстов, для сновидящего это множественность онтологических режимов, каждый со своей собственной телесностью, логикой и восприятием.
Синтез: онтопраксика как философия после постмодерна
Таким образом, нагуализм не отменяет постмодернизм, а включает его в себя в качестве момента критики. Постмодернизм был необходимой стадией очищения – он вымел метафизические иллюзии, показал условность всех конструкций. Но он остановился на полпути, впав в нигилизм.
Нагуализм завершает этот путь, предлагая выход из тупика. Он говорит: «Вы правы, всё это – конструкции. Но способность их конструировать – и, что важнее, деконструировать – основана на силе, которая самим конструкциям не принадлежит. Эта сила – осознание, текущее из Нагваля».
Философия будущего, если она хочет остаться жизненной силой, а не игрой в бисер, должна, согласно этому взгляду, стать онтопраксикой. Она должна сменить вопрос «Что есть реальность?» на вопрос «Как я собираю реальность и как я могу собрать ее иначе?» Это переход от бесконечного комментирования пьесы к выходу на сцену и переписыванию роли по ходу действия.
Лабиринт зеркал был необходим, чтобы мы наконец устали от собственных отражений и захотели увидеть то, что в нем отражается. Истина перестает быть соответствием высказывания реальности (как у классиков) или эффектом дискурса (как у постмодернистов). Она становится адекватностью сборки – ее текучестью, энергетической эффективностью и способностью открывать новые пути для воспринимающего осознания. И этот критерий нельзя вывести логически; его можно только испытать на собственном опыте, совершив прыжок из башни из слоновой кости – в океан немого, неописуемого, но бесконечно живого Нагваля.
7. Заключение. Стены из воздуха и как их покинуть
Наше путешествие по лабиринтам современной мысли подошло к своей кульминации. Мы начали его в тишине картезианской печи, где рождение cogito одновременно стало актом великого отчуждения – рассечения мира на «призрака» и «машину». Мы проследили, как эта изначальная рана породила все последующие «трудные проблемы» философии сознания, превратив сознание в загадочный эпифеномен, а мир – в недостижимую вещь-в-себе. Затем мы стали свидетелями гениального, но отчаянного маневра: лингвистического поворота. Отчаявшись найти мост между сознанием и миром, философия решила упразднить саму проблему, объявив, что ничего, кроме языка, не существует. Родился лабиринт зеркал – блистательный мир постмодерна, где всё стало текстом, дискурсом, интерпретацией.
Мы восхитились мощью этой критики. Деконструкция разоблачила все «большие нарративы», показав их условность и причастность к механизмам власти. Анализ Фуко продемонстрировал, как знание производит субъектов, а дискурс конструирует саму реальность. Но мы также увидели и цену этого триумфа: бесконечный регресс, этический паралич, исчезновение реальности за её интерпретациями. Философия, начав как путь к истине, превратилась в искусство бесконечного подозрения, в ироничную игру с обломками смыслов, где любая твердая почва уходит из-под ног.
И вот, оказавшись в этом тупике, мы обратились к взгляду из нагуализма. И этот взгляд позволил нам переинтерпретировать всю предшествующую драму не как трагедию, а как необходимую, но незавершенную стадию. Картезианский дуализм, постмодернистский конструкционизм – это не ошибки, а следствия определенной, исторически сложившейся конфигурации восприятия. Это описание работы Тоналя – того аспекта человеческого осознания, чья функция заключается в создании стабильного, упорядоченного, пригодного для жизни мира.
Диагноз: Тональ, запертый в собственной библиотеке
С точки зрения нагуализма, постмодернизм – это апофеоз Тоналя. Это Тональ, который, достигнув невероятной степени рефлексивной сложности, начал изучать сам себя. Он составил исчерпывающий каталог своих механизмов: языковых игр, дискурсивных практик, структур различий. И, очарованный собственным отражением в этих бесчисленных зеркалах, он совершил роковую ошибку: он объявил, что за пределами его библиотеки ничего не существует. «Всё – текст» – это не открытие, а симптом. Симптом того, что точка сборки – тот энергетический фокус, который определяет, какую часть необъятного энергетического потока Вселенной мы воспринимаем как реальность, – оказалась жестко зафиксирована в позиции, где реальность отождествляется с её вербально-концептуальным описанием.
Проблема «трудной проблемы сознания», экзистенциальный паралич релятивизма, разрыв между теорией и практикой – все это симптомы одной болезни: неподвижности точки сборки. Мы подобны библиотекарям, которые, проведя всю жизнь в библиотеке Борхеса, состоящей из зеркальных залов, начали сомневаться в существовании мира за ее стенами. Стены этой библиотеки сделаны не из камня, а из языка, концепций, дискурсов. Это стены из воздуха, но от этого они не становятся менее прочными для того, кто не знает выхода.
Лекарство: Онтопраксика – философия как магическое действие
Что же предлагает нагуализм? Не новую, более изощренную теорию. Не очередную интерпретацию зеркал. Он предлагает праксис. Радикальный переход от вопроса «Что есть реальность?» к эксперименту «Как я собираю свою реальность?». Это и есть суть онтопраксики.
Если постмодернизм – это бесконечное усложнение внутреннего диалога, то нагуализм предлагает его остановку. Остановка мира – это не метафора, а конкретная дисциплина молчания ума, которая позволяет приостановить процесс вербализации и интерпретации. В этом молчании точка сборки теряет свою жесткую фиксацию. Лабиринт зеркал исчезает не потому, что его деконструировали, а потому, что мы перестали в нем участвовать. И то, что открывается, – это не новое описание, а прямое восприятие мира как энергии, как Нагваля.
В этом восприятии снимаются все старые апории. Исчезает дуализм «субъекта» и «объекта», ибо воспринимающий и воспринимаемое оказываются аспектами единого энергетического поля. «Трудная проблема» сознания теряет смысл, ибо сознание оказывается не продуктом мозга, а фундаментальным свойством самой вселенской энергии. Мозг – не генератор, а рецептор, настраивающий это осознание в конкретный, полезный для выживания диапазон.