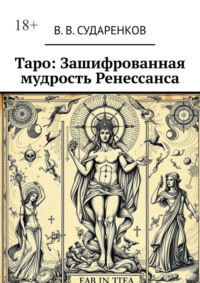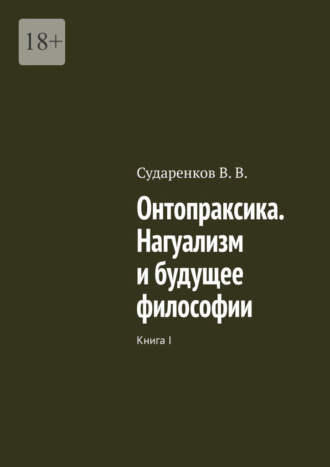
Полная версия
Онтопраксика. Нагуализм и будущее философии. Книга I
Пациент оказывается разорванным между этими двумя подходами. Его отправляют от психиатра, выписывающего таблетки, к психотерапевту, говорящему о внутреннем ребенке. Один работает с «машиной», другой – с «призраком». И они не могут найти общего языка, потому что сама онтологическая пропасть между этими двумя сущностями не преодолена. Пациент интуитивно чувствует себя и тем, и другим, но научная и терапевтическая практика заставляет его выбирать.
Общий вердикт: Исчерпанность парадигмы третьего лица
Таким образом, все традиционные подходы, несмотря на их внутренние различия, объединены одной фундаментальной стратегией: они пытаются объяснить сознание с позиции третьего лица, извне. Они рассматривают его как объект среди других объектов. Но сама природа сознания – это природа первого лица, взгляда изнутри. Любая попытка описать его извне неизбежно упускает его самую суть – субъективность.
Мы подобны человеку, который пытается понять, что такое плавание, изучая только химический состав воды и биомеханику гребков, но никогда не заходя в воду. Мы можем составить идеальную карту океана, но карта – это не океан. Мы можем описать все физические корреляты переживания, но описание – это не переживание.
Это и есть тот великий провал, который заставляет нас признать: возможно, мы исчерпали ресурсы чисто дискурсивного, объективирующего подхода. Мы уперлись в стену, и все попытки пробить ее лбом лишь усиливают головную боль. Стена эта – наше собственное отражение. Мы пытаемся изучать инструмент изучения самим же этим инструментом. И именно в этом моменте тотального методологического отчаяния рождается запрос на радикально иную позицию – не взгляд на сознание извне, и не взгляд изнутри сознания на мир, а некий мета-взгляд, который мог бы охватить саму возможность этих перспектив.
4. Нейронаука и феноменология: Два корабля, проплывающие в ночи
Осознав пределы традиционных философских подходов, наша мысль закономерно раздвоилась, породив два самых мощных и самых одиноких исследовательских проекта современности. Один устремлен вовне, к объективной материи мозга; другой – вовнутрь, к субъективной ткани опыта. Это нейронаука и феноменология. Они подобны двум кораблям, отправившимся с противоположных берегов одного и того же океана – океана сознания. Каждый оснащен совершенными инструментами, каждый составляет безупречные карты своего маршрута. Но их курсы никогда не пересекаются, а радиопереговоры напоминают диалог глухонемых, говорящих на разных языках. Они плывут в одной воде, но в параллельных реальностях.
Нейронаука: Империя третьего лица
Нейронаука – это триумфальный марш объективного метода. Её credo можно сформулировать так: всё, что действительно существует в отношении сознания, может – в принципе – быть измерено, взвешено, подсчитано и визуализировано. Её идеал – полная карта нейронных коррелятов сознания (НКС), где каждому субъективному переживанию будет однозначно соответствовать определенный паттерн активности в нейронных ансамблях.
Успехи этой империи впечатляют. Функциональная МРТ позволяет нам в реальном времени наблюдать, как «загораются» различные области мозга: височные доли при прослушивании музыки, зрительная кора при просмотре картины, островковая доля при переживании отвращения. Мы можем с помощью транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) «включать» и «выключать» отдельные зоны, вызывая или подавляя определенные психические функции. Мы знаем, что гиппокамп – это картограф нашей памяти, миндалевидное тело – страж наших эмоций, а префронтальная кора – дирижер нашего «Я».
Но за этим триумфальным шествием скрывается фундаментальная, неразрешимая проблема. Нейронатуралист может показать вам на экране сканера ослепительно красное пятно в затылочной коре и сказать: «Смотрите, ваш мозг воспринимает красный цвет». Но он никогда не сможет показать вам на этом экране сам красный цвет. Он может зафиксировать все физические корреляты вашей боли, но никогда не зафиксирует саму боль. Нейронаука описывает носитель, но не сообщение. Она изучает сцену, декорации, актеров и их движения, но она принципиально не может заглянуть в сценарий, который придает всему этому смысл.
Психологически это порождает то, что можно назвать эффектом зомби-описания. Когда терапевт или исследователь видит в клиенте лишь набор нейронных паттернов и поведенческих реакций, он рискует утратить саму суть терапевтического процесса – встречу с уникальным субъективным миром другого человека. Диагноз «депрессия F32.1» – это ярлык, удобный для статистики и страхования. Но за этим ярлыком скрывается бездна уникальных переживаний: один чувствует тяжелое свинцовое одеяло, другой – ледяную пустоту, третий – оглушительный внутренний вопль. Нейронаука, сосредоточенная на общем, слепа к единичному. Она дает нам мощные инструменты для вмешательства (например, антидепрессанты), но не может ответить на вопрос, почему именно этот химический состав должен облегчить именно это экзистенциальное страдание.
Феноменология: Суверенитет первого лица
В противоположность нейронауке, феноменология, основанная Эдмундом Гуссерлем, совершила радикальный поворот к самим вещам – не к вещам-в-себе, а к вещам, какими они являются в нашем непосредственном опыте. Её девиз: «Назад, к самим вещам!» (Zurück zu den Sachen selbst!). Если нейронаука изучает мозг, то феноменология изучает жизненный мир (Lebenswelt) – мир, каким мы его проживаем до всяких научных абстракций и теорий.
Ключевым методом феноменологии является эпохé – воздержание от суждений о существовании внешнего мира, и феноменологическая редукция – вынесение за скобки всех наших привычных предположений с целью обратиться к чистому потоку переживания. Феноменолог не спрашивает: «Что такое стул?» Он спрашивает: «Как является мне этот стул в моем опыте?» Он описывает его данность: его устойчивость, его приглашающую к сидению форму, его цвет, отсылающий к памяти о дереве, его тактильную прохладу.
В этом подходе – величайшая сила и величайшая слабость феноменологии. Её сила – в беспрецедентной точности описания субъективной реальности. Работы Мориса Мерло-Понти о телесности, Жана-Поля Сартра о воображении или Мишеля Анри о жизни дают нам карту внутренней территории, не имеющую аналогов в объективных науках. В психологии это породило гуманистический и экзистенциальный подходы, для которых главным является не диагноз, а уникальный жизненный путь и переживания клиента.
Однако слабость феноменологии в её приватности. Мое описание вкуса клубники, каким бы точным оно ни было, останется моим личным достоянием. Феноменология не может предоставить интерсубъективных, проверяемых данных. Её описания невозможно верифицировать или фальсифицировать в научном смысле. Она рискует превратиться в изощренную форму интроспекции, красивую, но бессвязную поэзию о душе, которую невозможно сопоставить с данными, полученными «с другого берега».
Объяснительный провал: почему корабли не встречаются
Пропасть между этими двумя подходами – это не просто ведомственное недопонимание. Это онтологический разлом. Нейронаука оперирует в парадигме третьего лица, где реальность – это то, что может быть увидено кем угодно. Феноменология существует в парадигме первого лица, где реальность – это то, что переживается мной.
Проблема в том, что между этими двумя перспективами нет логического моста. Никакое, даже самое детальное, описание физических процессов в мозге (третье лицо) не может с логической необходимостью вывести из себя факт существования субъективного переживания (первое лицо). Это и есть тот самый объяснительный провал, о котором мы говорили ранее.
Представьте себе два словаря. В одном – «Нейронаучном словаре» – даны исчерпывающие описания всех процессов в мозге. В другом – «Феноменологическом словаре» – даны столь же исчерпывающие описания всех возможных переживаний. Эти словари полны и совершенны. Но между ними нет таблицы перевода. Зная, что в мозге произошло событие А (активация определенных нейронов), мы не можем найти в «Феноменологическом словаре» соответствующую статью «Переживание Б». Мы можем установить корреляцию, но не тождество.
В психотерапевтической практике этот разлом переживается особенно остро. Клиент приходит с панической атакой. Нейроориентированный терапевт видит сбой в вегетативной нервной системе, дисфункцию миндалины. Феноменологически ориентированный терапевт слышит рассказ о внезапном ощущении потери контроля, надвигающейся смерти, отчуждении от собственного тела. Оба правы. Но их описания существуют в разных вселенных. Первый будет работать с «машиной», пытаясь её успокоить (дыхательные техники, возможно, лекарства). Второй – с «призраком», пытаясь найти смысл этого ужаса, его связь с жизненной историей. Идеальная терапия, вероятно, требует синтеза обоих подходов, но сам этот синтез невозможен без преодоления онтологического разрыва между ними.
Взгляд из нагуализма: точка сборки как мост
Именно здесь нагуализм предлагает свою, возможно, самую радикальную гипотезу. Он утверждает, что и нейронаука, и феноменология изучают следствия, а не причину. Они изучают разные продукты работы одного и того же глубинного механизма – точки сборки.
С этой точки зрения, нейронаука описывает физиологические корреляты определенной, стабильной позиции точки сборки. Та картина мозга, которую мы видим на фМРТ, – это отпечаток, следствие того, что наше осознание сфокусировано именно в этом, человеческом, режиме восприятия.
Феноменология же описывает содержание этой сборки – тот самый жизненный мир, который возникает, когда точка сборки зафиксирована в данной позиции.
Таким образом, точка сборки является тем гипотетическим медиатором, который связывает непроходимую пропасть между первым и третьим лицом. Она – не физический орган и не ментальная сущность, а энергетический фокус, который одновременно и организует нейрофизиологические процессы (объясняя данные нейронауки), и порождает структуру субъективного опыта (объясняя данные феноменологии).
Практика остановки внутреннего диалога и сдвига точки сборки – это, по сути, экспериментальный метод проверки этой гипотезы. Это попытка выйти за пределы как чисто объективного, так и чисто субъективного описания, перейдя на уровень, где они берут свое начало. Если такая практика позволяет нам произвольно менять и нашу физиологию (изменяя паттерны мозговых волн, телесные ощущения), и наше субъективное переживание (переходя в иные состояния осознания), то она эмпирически доказывает существование некоего общего корня.
Следовательно, нагуализм не отвергает ни нейронауку, ни феноменологию. Он предлагает поместить их в более широкий контекст – контекст онтопраксики, где знание о сознании не сводится ни к карте мозга, ни к описанию переживаний, а проявляется в практическом умении управлять самим процессом сборки реальности. Корабли нейронауки и феноменологии не встречаются, потому что они ищут друг друга на поверхности океана, не подозревая о существовании единого дна, от которого исходят все волны.
5. Взгляд из нагуализма: Сознание не в мозге, а мозг – в сознании
После того как мы с беспощадной тщательностью зафиксировали провал всех традиционных подходов и онтологический разрыв между нейронаукой и феноменологией, настало время для радикальной смены перспективы. Нагуализм предлагает не просто еще одну теорию сознания, а фундаментальный пересмотр самой системы координат, в которой мы ставим вопрос. Он начинается с простого, но разрушительного тезиса: вся «трудная проблема» возникает из исходной, некритически принятой предпосылки, унаследованной от картезианства. А именно: что сознание находится внутри мозга. Что если это – иллюзия, порожденная специфической конфигурацией самого сознания? Что если верно обратное: мозг находится внутри сознания, являясь не его генератором, а сложнейшим приемником и спецификатором?
Критика исходной позиции: Тюрьма картезианской сборки
Вся современная дискуссия о сознании, от Чалмерса до Деннета, вращается вокруг «призрака в машине». Мы бесконечно спорим о том, как призрак появляется в машине, взаимодействует с ней или является ее иллюзией. Но мы почти никогда не ставим под сомнение саму архитектуру этой метафоры – идею, что сознание есть нечто локальное, ограниченное пространством черепной коробки.
Нагуализм утверждает, что это убеждение – не открытие, а продукт определенной, доминирующей сборки реальности. Это результат жесткой фиксации того, что Кастанеда называл точкой сборки – энергетического центра в человеческом коконе, который определяет, какая часть бесконечного энергетического потока Вселенной (Нагваля) будет воспринята и интерпретирована как «реальность». Наша обычная, человеческая реальность с её дихотомией «субъект-объект», «внутреннее-внешнее», – это лишь одна из бесчисленных возможных сборок, одна позиция точки сборки среди многих других.
Таким образом, ощущение, что «я нахожусь здесь, внутри моей головы, и смотрю на внешний мир» – это не фундаментальная истина, а эффект этой конкретной фиксации. Это способ, которым тональ – описанный, упорядоченный мир – структурирует наше восприятие. Мы приняли продукт сборки за её необходимое условие.
Точка сборки как интерфейс: Мозг – не генератор, а рецептор
С этой новой точки зрения, функция мозга кардинально переосмысливается. Вместо модели «мозг как генератор сознания» нагуализм предлагает модель «мозг как трансдуктор» или «мозг как спецификатор».
Представьте себе радиоприемник. Он не создает музыку Бетховена. Он улавливает невидимые, неслышимые электромагнитные волны и преобразует их в специфическую форму – звуковые колебания, которые мы можем воспринять. Если мы разберем приемник на транзисторы и конденсаторы, мы не найдем внутри симфонии. Мы найдем лишь механизм её декодирования.
Мозг, в этой аналогии, – это невероятно сложный биологический «приемник», настроенный на определенный «диапазон» осознания. Его сложнейшая нейронная архитектура не производит сознание, а фокусирует, ограничивает и специфицирует изначально присущее вселенной осознание в узкую, прагматичную, человеческую форму. Он фильтрует колоссальный поток энергетических сигналов, позволяя нам воспринимать лишь крошечный его сегмент, необходимый для выживания в нашем мире тоналя.
Что же такое «сознание» в этой модели? Это не продукт мозга, а само осознавание как фундаментальное свойство энергетического поля Вселенной. Оно не локализовано «внутри» нас; мы, как энергетические существа, погружены в него и являемся его частью. Наше индивидуальное сознание – это не островок, оторванный от материи, а локализованный вихрь в едином океане осознания.
Сдвиг точки сборки как ключ к «трудной проблеме»
Эта модель предлагает элегантное решение «трудной проблемы». Вопрос «Почему физические процессы в мозге порождают субъективный опыт?» оказывается некорректным, ибо основан на ложной предпосылке. Правильный вопрос звучал бы так: «Почему определенные конфигурации этого приемника (мозга) коррелируют с определенными модусами осознавания?».
И здесь ключевое значение приобретает концепция сдвига точки сборки. Практики нагуализма – остановка внутреннего диалога, сновидение, сталкинг – являются методами намеренного изменения позиции этого «приемника». Когда точка сборки сдвигается, происходит нечто революционное: меняется не просто «содержимое» сознания (образы, мысли), но сам способ осознавания и, что крайне важно, его физиологические корреляты.
* В состоянии сновидения
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.