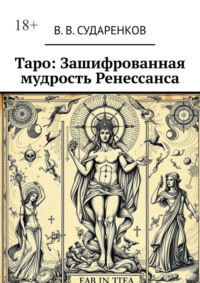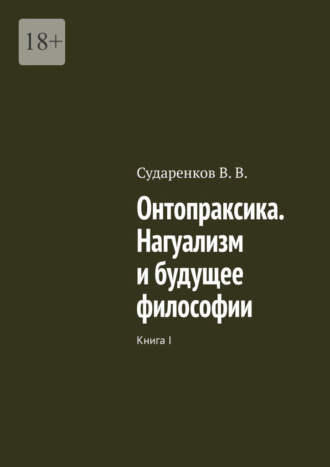
Полная версия
Онтопраксика. Нагуализм и будущее философии. Книга I
* Мир Сознания (Res Cogitans): внутренний, субъективный, качественный, смысловой. Мир «квалиа» – вкуса кофе, боли, любви, смысла прочитанной поэзии.
* Мир Материи (Res Extensa): внешний, объективный, количественный, причинно-обусловленный. Мир измерений, законов, механических взаимодействий.
Проблема взаимодействия: невозможный мост
А теперь – центральный вопрос, апория, вокруг которой будет крутиться вся последующая философия: как эти две субстанции взаимодействуют?
Моя res cogitans (нематериальная воля) решает поднять руку. И моя res extensa (материальная рука) – поднимается. Каким образом намерение, не имеющее ни массы, ни энергии, вызывает физическое движение? Как телесная рана (повреждение машины) вызывает душевную боль (состояние призрака)? Это не просто загадка; это логический скандал. Нематериальное не может быть причиной материального в механистической картине мира, и наоборот. Это нарушило бы фундаментальный закон сохранения.
Декарт, будучи блестящим ученым, понимал эту проблему. Его решение – шишковидная железа (epiphysis) – сегодня кажется курьезом, но в его эпоху это была гениальная и единственно возможная в рамках его системы гипотеза. Почему именно она? Декарт рассуждал так: мозг симметричен, большинство его структур парные (два полушария, два желудочка). Шишковидная железа – единственный непарный, центрально расположенный орган. Поскольку сознание едино и нераздельно, ему должна соответствовать единая, а не парная точка контакта. Здесь, считал Декарт, душа через волю (некую тончайшую энергию) воздействует на «животных духов», меняя траекторию их движения, и таким образом управляет машиной тела.
Критики (например, Лейбниц) почти сразу указали на фатальную слабость этой модели: если душа и тело столь разноприродны, то даже единая точка контакта не решает проблемы. Как вообще возможно соприкосновение между тем, что по определению непротяженно, и тем, что протяженно? Это все равно что пытаться прикоснуться к мысли кончиком пальца. Шишковидная железа – это все еще часть машины, часть res extensa. А значит, мы возвращаемся к исходному вопросу: как нематериальное может воздействовать на материальное?
Психологическое измерение раскола: интериоризация раны
Но трагедия картезианского дуализма не ограничивается философскими дискуссиями. Она была интериоризирована, превратилась в глубинный, часто неосознаваемый пласт западного менталитета. Мы все – психологические картезианцы.
Посмотрите, как мы говорим о себе:
* «У меня есть тело». Мы отделяем свое «Я» от тела, как владелец от автомобиля. Тело становится собственностью, инструментом, иногда тюрьмой.
* «Я борюсь со своими эмоциями». Эмоции, порождаемые телесными процессами, воспринимаются как нечто внешнее по отношению к подлинному «Я», что-то, что нужно обуздать, контролировать.
* «Мой мозг вырабатывает мысли». Здесь мы видим редукционистский ход: мы пытаемся свести res cogitans к сложной функции res extensa (мозга), но при этом сам акт этого «сведения» совершается нашим сознанием, что создает порочный круг.
В кабинете психолога эта расколотость проявляется во всей полноте. Клиент с психосоматическим расстройством – это живое воплощение картезианской проблемы. Его «призрак» (подавленная тревога, невысказанный гнев) самым прямым и мучительным образом воздействует на его «машину» (вызывая язву, экзему, боли в спине). И классический терапевтический подход часто лишь усугубляет раскол: «Это все у тебя в голове» (т.е., это проблема res cogitans, возьми себя в руки) или «Прими таблетку» (т.е., это проблема res extensa, почини биохимию машины). И то, и другое оставляет нетронутой саму пропасть между ними.
Телесно-ориентированная психология, например, школа Вильгельма Райха и Александра Лоуэна, возникла именно как бунт против этого раскола. Ее базовый постулат: тело – это не оболочка для психики, а сама психика, выраженная во плоти. Мышечный зажим («броня») – это и есть телесная форма существования невротического конфликта. Но и эти подходы, борясь с дуализмом на практике, часто не находили адекватного философского языка для его преодоления.
Взгляд из нагуализма: сборка дуализма
И здесь мы подходим к краеугольному камню нашей критики. С точки зрения нагуализма, картезианский дуализм – это не описание реальности, а одна из самых мощных и устойчивых сборок тоналя.
Давайте вспомним: тональ – это островок описания, упорядоченный мир, который мы знаем. Он создается и поддерживается через акты восприятия и интерпретации. Декарт, сам того не ведая, не открыл истину, а совершил титанический акт сборки – он зафиксировал точку сборки западного человечества в позиции, где дихотомия «внутреннее/внешнее», «сознание/материя» воспринимается как незыблемый, онтологический фундамент.
Понятия res cogitans и res extensa – это не сущности, а описания мира, возведенные в абсолют. Они – продукт определенного способа смотреть, определенной конфигурации внимания. Проблема взаимодействия – это не проблема мира, а проблема этой конкретной сборки. Она неразрешима внутри ее логики, подобно тому как невозможно нарисовать трехмерный объект на плоском листе бумаги, не исказив его.
Что предлагает нагуализм? Выход за пределы самой дихотомии. Прямое восприятие мира как энергии («видение») не знает разделения на мыслящую и протяженную субстанцию. В акте видения наблюдатель и наблюдаемое представляют собой единое энергетическое поле. Воля (intent) – это не психический акт нематериального «призрака», а направленность и сила всего энергетического существа в целом. Тело при таком взгляде – не машина, а сгусток воспринимающей энергии, одна из форм проявления осознания.
Таким образом, анатомия картезианского раскола приводит нас к неутешительному выводу: мы потратили четыреста лет, пытаясь склеить два осколка разбитого зеркала, принимая отражение в каждом из них за самостоятельную реальность. Мы пытались найти мост между «призраком» и «машиной», не отдавая себе отчета в том, что и то, и другое – лишь концепции, порожденные одним и тем же способом восприятия.
3. Рождение «трудной проблемы»: провалы классических решений
Картезианская рана была нанесена, анатомия раскола препарирована. Но живой организм мысли не может долго существовать с зияющей пустотой в своем центре. Последующие поколения философов бросились на приступ этой пропасти между «призраком» и «машиной», пытаясь навести мосты, которые оказались либо слишком шаткими, либо ведущими в тупик. История этих попыток – это история отчаяния и изобретательности, которая в конце XX века кристаллизовалась в элегантной и разрушительной формуле Дэвида Чалмерса: «трудная проблема сознания». Но чтобы понять, почему она такая «трудная», нам нужно проследить за тем, как классические решения лишь углубляли пропасть, которую пытались преодолеть.
Первый мост в никуда: идеализм или солипсизм как побег от материи
Если мост между двумя субстанциями построить невозможно, то почему бы не объявить, что одной из них вовсе не существует? Первый великий побег из картезианской тюрьмы предпринял Джордж Беркли с его радикальным идеализмом: Esse est percipi – «Существовать – значит быть воспринимаемым».
Беркли атаковал самую основу res extensa. Что такое материя, эта протяженная субстанция? Мы знаем о ней лишь через наши восприятия: цвет, запах, текстуру, звук. Но эти восприятия суть идеи, существующие в нашем уме (res cogitans). А что остается от материи, если мы мысленно уберем все ее воспринимаемые качества? Ничего. Абстракция, призрак, пустое слово. Следовательно, делает вывод Беркли, не существует никакой независимой материальной субстанции. Существуют только умы (конечные res cogitans) и их восприятия. А чтобы мир не рассыпался в момент, когда никто на него не смотрит, Беркли вводит вечного Наблюдателя – Бога, чье восприятие удерживает всю вселенную в непрерывном существовании.
Кажется, проблема решена! Дуализм преодолен в пользу res cogitans. Мир – это гигантский поток восприятий в универсальном Уме. Но цена этого решения оказалась непомерной. Беркли, сам того не желая, возвел стены картезианской тюрьмы до небес. Если мир – это лишь мои восприятия (или восприятия Бога), то где гарантия, что другие люди обладают собственным сознанием? Они – всего лишь сложные комплексы моих ощущений. Это путь к солипсизму, философскому одиночеству вселенского масштаба. Более того, такой подход полностью обесценивает науку, изучающую законы этой иллюзорной «материи». Идеализм Беркли – это блестящий побег из камеры, который привел не на свободу, а в бесконечный зал зеркал, где отражаешься только ты сам.
Второй мост: материализм или как убить призрака
Противоположная стратегия казалась более соответствующей духу зарождающейся науки: не уничтожать материю, а уничтожить «призрака». Если res extensa – это все, что есть, то сознание должно быть чем-то производным от нее. Так родился материализм в его различных формах.
Французский врач и философ Жюльен Офре де Ламетри в трактате «Человек-машина» провозгласил: не существует никакой мыслящей субстанции. Человек – это сложно устроенные часы; душа есть не что иное, как пустое слово, за которым скрывается работа мозга. Сознание – это эпифеномен, побочный продукт материальных процессов, подобный пару, поднимающемуся от котла, который не влияет на кипение воды внутри него.
Казалось бы, вот он, путь к объективной науке! Мы отказываемся от загадочной души и изучаем мозг – материальный орган. Но материализм наталкивается на свой собственный, не менее ужасный тупик – проблему квалиа (от лат. qualia – качества, свойства). Квалиа – это субъективные, качественные переживания любого опыта. Боль от укола булавки – это не просто сигнал C-волокон; это особое, невыразимое, внутреннее ощущение. «Красное» красного заката – это не просто электромагнитная волна длиной 620—740 нанометров; это конкретное, живое переживание.
Материализм может блестяще описать корреляты сознания – какие процессы в мозге сопровождают переживание красного. Но он принципиально неспособен объяснить, почему эти процессы должны ощущаться. Почему они не могут протекать «в темноте», как это происходит, предположительно, у компьютера или у камня? Парадокс в том, что любая материалистическая теория, сколь бы сложной она ни была, сама является продуктом сознания того, кто ее создает. Мы пытаемся объяснить сознание извне, но само «вне» существует лишь внутри него. Материализм, пытаясь изгнать «призрака», в итоге пришел к отрицанию самого очевидного и непосредственного из всего, что нам дано – нашего внутреннего мира.
Третий мост: параллелизм или божественный обман
Готфрид Вильгельм Лейбниц, видевший недостатки как дуализма, так и нарождающегося материализма, предложил изящное, но отчаянное решение – психофизический параллелизм. Он соглашался с Декартом, что душа и тело – две различные субстанции. Но, в отличие от Декарта, он отрицал возможность какого-либо реального взаимодействия между ними.
Вместо этого Лейбниц представил себе две идеально синхронизированные пары часов. Одни показывают время души (ее мысли, желания), другие – время тела (его движения, физиологические процессы). Они идут в полной гармонии, но не потому, что влияют друг на друга, а потому, что были так заведены Часовщиком – Богом – при сотворении мира. Когда в душе возникает желание поднять руку, тело поднимает ее не потому, что на него повлияла душа, а потому, что такова была предустановленная гармония, божественная синхронизация с самого начала.
Это решение остроумно обходит проблему взаимодействия, но его метафизическая цена чудовищна. Оно требует веры в то, что Бог заранее просчитал и синхронизировал каждую мысль с каждым движением частицы во вселенной. Это философский деизм, доведенный до абсурда. Мир превращается в гигантский, лишенный свободы балет, где душа и тело лишь исполняют раз и навсегда заданную партию, не подозревая о существовании друг друга. Параллелизм спасает философскую последовательность, но убивает саму жизнь мира, превращая ее в иллюзию.
XX век: функционализм и когнитивная революция – старый призрак в новых цифровых одеждах
С появлением кибернетики и компьютеров у материализма появился, казалось бы, новый, мощный союзник – функционализм. Его ключевая метафора: мозг – это hardware (аппаратное обеспечение), а сознание – software (программное обеспечение). Неважно, из чего сделан носитель – из кремния или из нейронов; важно, какую функцию он выполняет, какую программу запускает. Сознание – это не вещь, а процесс, организация информации.
Этот подход позволил когнитивной науке сделать гигантский шаг вперед. Мы стали моделировать процессы восприятия, памяти, внимания. Но «трудная проблема» оказалась живуча. Мы можем создать программу, которая будет распознавать красный цвет и выдавать сообщение «я вижу красное». Но будет ли она переживать красное? Исчезает ли квалиа, если мы перенесем «программу» нашего сознания на кремниевый носитель? Функционализм блестяще решает «легкие проблемы» сознания (как мы обрабатываем информацию, фокусируем внимание), но он так же беспомощен перед загадкой самого субъективного переживания, как и механистический материализм Ламетри. Он объясняет cognition (познание), но не consciousness (осознавание).
Рождение Дракона: формулировка Чалмерса
И вот, на фоне этого многовекового тупика, в 1994 году молодой австралийский философ Дэвид Чалмерс произносит свою знаменитую речь, в которой четко отделяет «легкие проблемы» сознания от «трудной».
Легкие проблемы – это проблемы выполнения функций. Как мозг интегрирует информацию? Как он фокусирует внимание? Как он производит отчеты о внутренних состояниях? Это проблемы сложные, но в принципе разрешимые в рамках стандартных методов нейронауки и когнитивной психологии. Мы не до конца знаем механизмы, но мы понимаем, какого рода объяснения будут удовлетворительными.
Трудная проблема – это проблема самого существования субъективного опыта. Почему вообще физическая обработка информации сопровождается внутренним, субъективным кино? Почему существует нечто, похожее на то, каково это – быть нами? Почему эти процессы не идут «в темноте»?
Чалмерс не просто дал имя старой проблеме. Он показал, что все предыдущие решения – идеализм, материализм, функционализм – на самом деле решали лишь «легкие проблемы», гордо объявляя о победе, в то время как настоящий дракон – «трудная проблема» – продолжал спать в самой пещере их теорий. Мы научились описывать структуру и функции сознания, но само возникновение феномена «от первого лица» осталось загадкой.
Психологический тупик: невозможность быть «объективным» о субъективном
В психологии этот тупик проявляется с особой остротой. Любой терапевт сталкивается с невозможностью полностью объективировать внутренний мир клиента. Мы можем изучать его поведение (машина), мы можем анализировать его речь и мозговые ритмы. Но переживание горя, экстаз любви, тихое отчаяние – это квалиа, к которым у нас нет прямого доступа. Бихевиоризм, попытавшийся изгнать «призрак» из психологии, потерпел крах именно потому, что выплеснул с водой самого ребенка – субъективный опыт. Когнитивная терапия работает с «автоматическими мыслями» (software), но сам факт того, что эти мысли ощущаются как мучительные, снова упирается в «трудную проблему».
Клинические случаи лишь подчеркивают это. Пациент с синестезией, «видящий» звуки в цвете, имеет иную конфигурацию квалиа, но мы никогда не сможем узнать, каково это – быть им. Пациент с синдромом «чужой руки», воспринимающий собственную конечность как не принадлежащую ему, демонстрирует разрыв между телесной машиной и ощущением самости, владения. Эти случаи – не аномалии, а увеличенные карты тех территорий, где «трудная проблема» выходит на поверхность.
Взгляд из нагуализма: проблема не в сознании, а в точке сборки
И здесь мы снова возвращаемся к нашему ключевому тезису. «Трудная проблема» кажется неразрешимой только внутри той картезианской сборки, которая ее породила. Она возникает из убеждения, что существует «объективный» мир физических процессов (мозга) и некий отдельный «субъективный» мир переживаний, и мы не понимаем, как они связаны.
Но что, если это различение ложно? Что, если «объективное» и «субъективное» – это не онтологические категории, а два аспекта единого потока осознания, два способа его сборки?
С точки зрения нагуализма, «трудная проблема» – это артефакт жесткой фиксации точки сборки в позиции, где внутреннее и внешнее воспринимаются как отдельные, онтологически различные реальности. В акте прямого восприятия, «видения», мир предстает не как разделенный на объекты и субъекты, а как единое энергетическое поле. Осознание не «возникает» из материи; оно является первичным свойством этого поля, его способностью к самовосприятию. А то, что мы называем «материей» – это лишь одна из стабильных, согласованных конфигураций этого осознания, которую мы научились воспринимать и описывать.
Таким образом, вопрос «Почему мозг порождает сознание?» для нагуализма столь же бессмыслен, как вопрос «Почему вода мокрая?» Это не два разных явления, которые нужно связать. Это одно и то же явление, рассматриваемое с двух разных, несоизмеримых точек. Мозг – не генератор сознания, а скорее редукционный клапан, фильтр, который фокусирует и стабилизирует вселенское осознание в узком, практичном для выживания диапазоне – в нашем привычном мире тоналя.
Следовательно, «трудная проблема» не решается на своем собственном поле. Она растворяется, когда мы совершаем онтологический сдвиг и меняем саму парадигму восприятия. Мы потратили века, пытаясь понять, как призрак связан с машиной, не допуская и мысли, что и призрак, и машина – лишь проекции нашего собственного, ограниченного способа смотреть.
4. Наследие раны: Как дуализм отравил современную мысль
Картезианская рана не осталась достоянием истории философии – она стала подземной рекой, питающей и отравляющей всю интеллектуальную местность, по которой мы движемся сегодня. Этот раскол между res cogitans и res extensa – не музейный экспонат, а живой вирус, проникший в самые основы того, как мы думаем о себе, о мире и о знании. Его наследие – это пейзаж, расчерченный непроходимыми пропастями, которые мы научились так ловко перепрыгивать с помощью концептуальных мостков, что уже не замечаем самой бездны под ногами. Давайте же проследим, как эта «рана» продолжает кровоточить в трех ключевых сферах: в философии сознания, в науках о познании и в самой ткани нашей культуры.
В философии сознания: спектакль с призраком в главной роли
Современная философия сознания напоминает грандиозный спектакль, поставленный вокруг невидимого актера. Все сценические конструкции, диалоги и спецэффекты подчинены одной цели – либо доказать его существование, либо изгнать его со сцены, либо убедить зрителей, что его никогда и не было. Этот актер – «призрак» картезианской машины, квалиа, субъективное «Что значит быть?»
Спор между физикализмом, функционализмом и дуализмом свойств – это не просто академическая дискуссия; это прямые наследники той самой исходной дилеммы. Физикализм, современный наследник Ламетри, настаивает: всё существующее – физично. Сознание либо иллюзия (теория «иллюзионизма», как у Дэннета), либо оно тождественно определенным физическим процессам в мозге. Но когда физикалист говорит: «Боль – это всего лишь возбуждение С-волокон», он совершает ту же ошибку, что и его предшественники: он пытается описать субъективное переживание извне, с точки зрения третьего лица. Он дает нам исчерпывающую карту нейронных процессов, но сама территория боли – ее жгучая, отталкивающая реальность – с карты бесследно исчезает.
Дуализм свойств, более утонченный потомок Декарта, признает: да, возможно, существует лишь одна материальная субстанция (мозг), но у нее есть два принципиально разных свойства: физические (масса, электрические импульсы) и ментальные (субъективные переживания). Это попытка усадить «призрака» обратно в машину, но не как пилота, а как пассажира, неотъемлемо пристегнутого к своему креслу. Проблема в том, что связь между этими свойствами остается столь же загадочной, как и взаимодействие субстанций у Декарта. Почему определенная конфигурация нейронов должна обладать свойством «ощущать вкус шоколада»? Механика этого чуда остается за кадром.
А «трудная проблема» Дэвида Чалмерса, о которой мы говорили ранее, – это не что иное, как элегантный и безжалостный диагноз этого многовекового тупика. Она – ярлык, который мы наклеили на собственную методологическую беспомощность. Мы уперлись в стену, и Чалмерс просто дал этой стене имя, показав, что все наши «решения» на самом деле были лишь перестановкой мебели в картезианской камере.
В науках о познании: тюрьма репрезентации
Если в философии сознания мы ломаем голову над «призраком», то в когнитивных науках мы смирились с жизнью внутри «машины» – и эта машина оказалась тюрьмой. Наследие раны здесь проявляется как проблема репрезентации. Раз сознание «внутри», а мир «снаружи», то наше знание о мире всегда опосредовано. Мы никогда не имеем дела с миром как таковым, а лишь с его ментальной репрезентацией, мозговой моделью, симулякром, который наш мозг услужливо конструирует из скудных данных, поставляемых органами чувств.
Эта метафора мозга как «вычислительной машины», перерабатывающей сенсорные сигналы во внутреннюю модель, доминирует в когнитивной науке. Мы – вечные узники черепной коробки, обреченные изучать не реальность, а проекции на стенах нашей пещеры. Наш опыт – это пользовательский интерфейс, скрывающий от нас ужасающую сложность лежащего в его основе кода. Вся современная риторика о «субъективном» и «объективном» вырастает из этого раскола. «Объективное» – это гипотетический мир «снаружи», мир res extensa, лишенный качеств. «Субъективное» – это мир res cogitans, мир квалиа, но мир, лишенный надежной связи с реальностью.
Это наследие порождает эпистемологический ужас. Как мы можем что-либо знать наверняка, если между нами и миром всегда стоит экран нашей собственной психики? Нейробиолог, сканирующий мозг испытуемого, видит на мониторе лишь свечение в V4-зоне – репрезентацию красного цвета в его собственном мозге. Но само переживание красного, квалиа, навсегда остается запертым в черепе испытуемого. Мы обречены на познавательное одиночество. Этот солипсизм на новый лад – прямое следствие того, что мы приняли картезианскую сборку за описание реальности.
В культуре: расколотый человек
Самое глубокое и трагическое наследие картезианской раны – не в академических журналах, а в повседневном опыте каждого человека западной (а теперь уже и глобальной) цивилизации. Этот раскол был интериоризирован, стал водой, в которой мы плаваем, не замечая ее вкуса.
* Раскол между наукой и гуманитарным знанием. Разве не знаком вам этот спор? С одной стороны – физик, говорящий, что любовь есть лишь коктейль из окситоцина, дофамина и вазопрессина. С другой – поэт, для которого любовь – это метафизическая тайна. Первый описывает машину (тело и мозг), второй – переживания призрака (сознания). И они не слышат друг друга, потому что говорят на принципиально разных языках, укорененных в картезианском дуализме. Науки о природе унаследовали res extensa, науки о духе – res cogitans. И этот разрыв кажется непреодолимым.
* Психосоматика как кризис дуализма. В кабинете терапевта картезианская рана проявляется с клинической очевидностью. Пациент приходит с паническими атаками, экземой, болями в спине. Врач-соматолог ищет поломку в машине: анализы, МРТ, лекарства. Психотерапевт ищет проблему у призрака: травмы, конфликты, когнитивные искажения. Но пациент – это единство. Его «призрак» и его «машина» – не две разные сущности, а два аспекта одного целого. Подавленный гнев (res cogitans) становится язвой желудка (res extensa). Терапия, основанная на дуализме, бессильна: она либо пытается «починить машину» таблетками, игнорируя призрака, либо «убедить призрака» разговорами, игнорируя вопли машины. Целостные подходы, от психосоматики до телесно-ориентированной терапии, – это бунт против этого наследия, попытка зашить картезианскую рану.