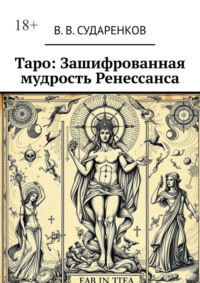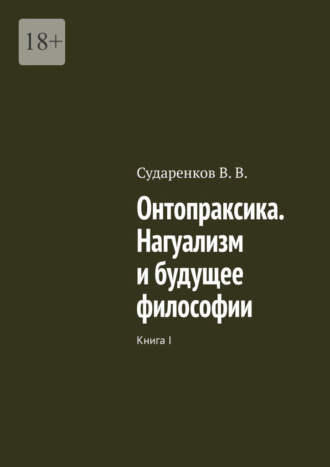
Полная версия
Онтопраксика. Нагуализм и будущее философии. Книга I
Таким образом, Аристотель не просто углубил разрыв, начатый Сократом и Платоном. Он его легитимизировал, вооружив невиданно мощным инструментарием и превратив в единственно возможный путь к знанию. Он – архитектор западного Логоса в его самой совершенной и влиятельной форме.
Его наследие – это двуликий Янус. С одной стороны, это основа нашей науки, логики, юриспруденции, да и самого структурированного мышления. Без Аристотеля не было бы ни Ньютона, ни Дарвина, ни современной компьютерной логики.
С другой стороны, это – тюрьма. Тюрьма, стены которой – категории, а решетки – силлогизмы. Это тюрьма, изгнавшая непосредственный опыт, объявившая невыразимое – несуществующим, а не укладывающееся в систему – иллюзорным. Аристотель дал нам ключ к пониманию Вселенной, но потерял для нас ключ от двери, ведущей обратно, в тот дикий, неукрощенный сад бытия, где дует тот самый ветер изначального изумления.
И когда впоследствии средневековые схоласты будут с величайшим тщанием обсуждать, сколько ангелов может поместиться на кончике иглы, они будут не отклонением от пути Аристотеля, а его прямыми наследниками, доведшими его систематизирующий импульс до абсурдного, но логичного предела. Они будут спорить не о мире, а о системе, забыв, как пахнет хвоя, частью которой эта игла является.
4. Усиление разрыва: Средневековье и схоластика
Если Аристотель построил изящный и стройный замок Разума, где каждая концепция находилась на своем месте, а логика служила универсальным ключом ко всем дверям, то Средневековая схоластика превратила этот замок в неприступную крепость Догмата. Разрыв между опытом и описанием, уже основательно углубленный платоновским идеализмом и аристотелевской систематизацией, здесь достигает своей кульминации, приобретая характер тотального и безусловного. Философия, некогда рожденная из дерзкого вопрошания миру, окончательно превращается в «служанку богословия» (ancilla theologiae), а ее главной задачей становится не исследование реальности, а герменевтическое упорядочивание сакральных текстов и приведение человеческого разума в согласие с истинами Откровения. Это эпоха, когда Тональ, мир описания, не просто замещает собой Нагваль, но и объявляет его подозрительным, греховным и недостойным внимания, если только он не освещен светом предустановленной истины.
Триумф Текста: от космоса к кодексу
Фундаментальный сдвиг, произошедший в средневековом мышлении, – это перенос эпицентра реальности. Для досократиков реальностью был Космос, для Платона – мир Идей, для Аристотеля – имманентная форма вещей. Для схоласта высшей, единственно достоверной реальностью становится Текст – Священное Писание и труды Отцов Церкви. Вся Вселенная теперь понималась как книга (liber naturae), написанная Богом, но прочесть ее правильно можно было, лишь сверяясь с главной Книгой – Библией.
Это породило невероятный, с современной точки зрения, феномен: реальность уступила место авторитетному описанию реальности. Если в опыте обнаруживалось нечто, противоречащее тексту (например, данные зарождающегося естествознания), то сомнению подлежал не текст, а опыт или его интерпретация. Психологически это означает полную победу левополушарного, вербально-логического модуса восприятия, который не просто фильтрует, но и активно подавляет правое полушарие с его ориентацией на целостный, вневербальный, непосредственный опыт.
Возник тотальный герменевтический круг, из которого не было выхода: чтобы понять мир, нужно читать Книгу Природы, но чтобы читать ее правильно, нужно уже обладать истинами Откровения. Любое знание, полученное вне этого круга, объявлялось не просто неполным, но потенциально еретическим. Нагваль – непредсказуемый, дикий, не поддающийся окончательной категоризации – был объявлен terra incognita, полной опасностей и искушений, куда благочестивому уму соваться не следует.
Спор об универсалиях: Логика на службе метафизики
Ничто не иллюстрирует этот разрыв лучше, чем знаменитый спор об универсалиях, бушевавший несколько столетий. Казалось бы, сугубо технический, логический вопрос о статусе общих понятий (универсалий) на деле был полем битвы за саму природу реальности.
* Реалисты (последователи Платона в его средневековой версии, как Ансельм Кентерберийский) утверждали, что универсалии существуют реально и независимо от вещей. Для них Идеи пребывали в уме Бога, а земные вещи были лишь их бледными копиями. Это была радикальная победа Тоналя: концепции в уме Творца объявлялись более реальными, чем их материальные проявления.
* Номиналисты (такие как Росцелин и, в более умеренной форме, Уильям Оккам) настаивали, что универсалии – это лишь имена (nomina), звуки голоса (flatus vocis), существующие исключительно в нашем уме и языке. Реальны лишь единичные, конкретные вещи. Номинализм, казалось бы, был попыткой вернуться к опыту, к Нагвалю. Но и он делал это через призму логического анализа языка, а не через прямое восприятие. Знаменитая «бритва» Оккама – «не следует умножать сущности без необходимости» – была оружием против метафизических спекуляций, но она отсекала не только излишние абстракции, но и саму возможность говорить о невыразимом, о том, что не укладывается в рамки дискретных «единичных вещей».
* Концептуализм Фомы Аквинского, пытавшийся найти золотую середину, был грандиозным синтезом аристотелизма и христианской догматики. Универсалии, по Фоме, существуют трояко: до вещей – в божественном интеллекте (здесь торжествует реализм), в вещах – как их сущностная форма (здесь проявляется аристотелизм), и после вещей – в человеческом уме как понятия (здесь слышны отголоски номинализма).
Этот спор был не просто академическим упражнением. Он демонстрировал, что даже попытка критиковать Тональ должна была использовать его же язык и его же методы. Философ был обречен вести бесконечные диспуты о природе понятий, все дальше уходя от того, что эти понятия были призваны обозначать. Знаменитый пример схоластов – спор о том, сколько ангелов может поместиться на кончике иглы – это не анекдот, а символ. Символ полной автономизации мыслительного процесса, его отрыва от какой бы то ни было эмпирической проверки. Мир стал игрой абстракций, где можно было с легкостью оперировать сущностями, не имеющими пространственно-временных характеристик (ангелами), и при этом оставаться в рамках «строгой науки».
Сумма теологии: Апогей систематизированного Тоналя
«Сумма теологии» Фомы Аквинского – это, возможно, величайший памятник средневекового Тоналя. Это вселенная, целиком выстроенная из понятий, аргументов, дистинкций и цитат. Ее цель – тотальная систематизация всего знания о Боге, человеке и мире в единую, логически непротиворечивую структуру.
Фома гениально применил аристотелевскую логику к материи христианского вероучения. Его знаменитые пять доказательств бытия Божия – это попытка достичь трансцендентного с помощью имманентных инструментов разума. Но, как и в случае с Аристотелем, система приобрела самодостаточность. Истинность утверждения определялась теперь не его соответствием живому опыту (мистическому или повседневному), а его местом в общей архитектуре системы и его согласованностью с авторитетными текстами.
Психологически это создало особый тип мышления – схоластический невроз, характеризующийся:
1. Гипертрофированной ригидностью. Мир должен был укладываться в предустановленные категории. Любая аномалия, любой парадокс воспринимались как угроза.
2. Компульсивной классификацией. Страсть к бесконечным дистинкциям (различениям) и субдистинкциям. Вся реальность дробилась на все более мелкие рубрики.
3. Приматом авторитета. Критерием истины было не личное переживание, а ссылка на признанный текст («как сказал блаженный Августин…»).
4. Страхом перед непосредственностью. Мистический опыт, пытавшийся прорваться к Нагвалю напрямую (как у Майстера Экхарта или Франциска Ассизского), часто встречал подозрение и осуждение со стороны официальной теологии.
Психология веры и подавление вопрошания
Средневековая схоластика создала мощный психологический механизм для поддержания разрыва. Вера (fides) объявлялась высшей добродетелью, а сомнение – грехом. Это не просто богословская позиция; это глубокая когнитивная установка. Мозг, воспитанный в такой парадигме, обучался активно подавлять любые когнитивные диссонансы, любые вопросы, которые могли пошатнуть здание веры.
Возникал то, что в современной психологии называют конфайнмент байас (confirmation bias) в его тотальной форме – тенденция искать и интерпретировать информацию таким образом, чтобы подтвердить уже существующие убеждения. Опыт, который не подтверждал догмат, не просто игнорировался; он мог быть объявлен дьявольским наваждением.
Это привело к глубокому расколу в самой человеческой психике. Способность к критическому, независимому мышлению, к тому самому изумленному вопрошанию, с которого началась философия, была вытеснена в тень или направлена в узкие, разрешенные русла. Интеллектуальная энергия, которая могла бы быть направлена на исследование природы, уходила в бесконечные диспуты о тонкостях божественной природы.
Крепость, приготовленная к штурму
Схоластика, при всей ее интеллектуальной мощи, стала тупиковой ветвью в развитии западного духа. Она довела логику разрыва до ее предельной формы, создав герметичный мир, в котором мысль, замкнувшись сама на себе, вращалась в круге авторитетных цитат и логических конструкций.
Однако именно эта предельная герметичность и подготовила почву для грядущего взрыва. Номинализм Оккама, рассекая «бритвой» лишние сущности, невольно расчищал пространство для эмпиризма. Гипертрофированная системность Фомы Аквинского демонстрировала, что даже самая совершенная система, оторванная от опыта, рано или поздно начинает буксовать.
Средневековье не разрешило разрыв; оно его усилило, возведя в абсолют. Оно построило крепость Тоналя такой неприступной, что любой будущий прорыв к Нагвалю – будь то ренессансное открытие природы, научная революция или романтический культ переживания – должен был быть сокрушительным, подобно взрыву. И когда в конце концов стены этой крепости дали трещину, наружу хлынула та самая энергия изначального изумления, которая была так тщательно законсервирована внутри. Но это уже история следующего поворота.
5. Мнимый возврат к опыту: Новое время и ловушка репрезентации
Эпоха Нового времени с ее лозунгом «sapere aude» – «имей мужество пользоваться собственным умом» – представляется на первый взгляд решительным разрывом со схоластическим прошлым. Кажется, вот он, долгожданный поворот: прочь от авторитетов, прочь от текстов, назад – к самому миру, к опыту, к природе! Философы вроде Фрэнсиса Бэкона призывают отбросить «идолов» разума и обратиться к чистому, незамутненному наблюдению. Возникает мощное движение эмпиризма, провозглашающее: нет ничего в разуме, чего бы не было прежде в чувствах (nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu). Но именно здесь, в этом жесте кажущегося освобождения, происходит самый изощренный и коварный виток в истории разрыва. Возврат к опыту оказывается мнимым, ибо сам «опыт» был переопределен и помещен в новую, на сей раз практически неуязвимую, тюрьму – тюрьму репрезентации.
Декарт: радикальное сомнение и рождение призрака в машине
Рене Декарт, по праву считающийся отцом современной философии, начинает с шага предельного освобождения – тотального методологического сомнения. Он решает отбросить всё, что можно хоть как-то поставить под сомнение: показания чувств (они обманывают), логические построения (можно представить злого гения, который их искажает), даже существование внешнего мира. Но в этом радикальном очищении кроется фатальная ловушка. Единственное, что устояло, – «cogito ergo sum» («я мыслю, следовательно, я существую») – становится не просто точкой опоры, а новой онтологической пропастью.
Декарт совершает фундаментальное рассечение реальности, которое определило судьбу западной мысли на столетия вперед. Он разделяет мир на две независимые субстанции:
1. Мыслящую субстанцию (res cogitans) – непротяженную, нематериальную, сущность которой состоит в мышлении и сознании.
2. Протяженную субстанцию (res extensa) – материальную, подчиняющуюся механическим законам, лишенную какого-либо внутреннего содержания или сознания.
Это и есть рождение того, что философ Гилберт Райл позднее саркастически назовет «мифом о Призраке в Машине». Сознание («призрак») оказывается запертым внутри механического тела-машины, полностью отрезанным от внешнего мира. И тут возникает центральная, неразрешимая проблема: как Призрак может что-либо знать о Машине? Как мои внутренние, субъективные мысли, ощущения и образы (то, что в философии сознания называют квалиа) могут хоть как-то соответствовать внешнему, объективному миру?
Психологически декартовский дуализм – это когнитивная катастрофа. Он интериоризирует разрыв, делает его структурой самого сознания. Отныне каждый человек обречен ощущать себя одиноким призраком, запертым в черепной коробке, взирающим на внешний мир через ненадежные оконца чувств. Прямой контакт с Нагвалем, с миром как он есть, объявляется в принципе невозможным. Мы имеем дело не с миром, а с его репрезентацией – ментальными образами, копиями, которые, возможно, лишь отдаленно напоминают оригинал.
Эмпиризм: от мира к ощущениям
Британские эмпирики – Локк, Беркли, Юм – пытались исправить рационалистический перекос Декарта, настаивая на том, что всё знание происходит из опыта. Но их путь, по иронии судьбы, лишь углубил пропасть.
* Джон Локк начинает с похвального намерения исследовать «простые идеи», которые поступают к нам от ощущений. Но он сразу же вводит различение между первичными и вторичными качествами. Первичные (протяженность, форма, движение) якобы реально существуют в самих объектах. Вторичные (цвет, звук, вкус) – всего лишь порождения нашего сознания, не имеющие аналогов во внешнем мире. Таким образом, даже на уровне восприятия мир дробится на «объективное» (вычисляемое, математизируемое) и «субъективное» (иллюзорное, не заслуживающее доверия). Мы отгораживаемся от богатства непосредственного переживания – синевы неба, сладости фрукта, – объявляя его «всего лишь» субъективной иллюзией. Опыт свелся к обработке данных.
* Джордж Беркли, видя логические трудности локковской модели, делает радикальный шаг: он объявляет, что и первичные качества существуют лишь в восприятии. Его «esse est percipi» («существовать – значит быть воспринимаемым») – это апогей имманентизации. Но какой ценой? Внешний мир, Нагваль, полностью растворяется в восприятии. Реальность становится совокупностью идей в уме (сперва человеческом, а для сохранения мира – в божественном). Беркли, пытаясь спасти опыт от скептицизма, уничтожил его объект. Это триумф Тоналя, достигшего своей предельной формы: всё есть мысль, идея, восприятие. Нагваль был объявлен несуществующим.
* Дэвид Юм, доведя логику эмпиризма до пределов, показал ее катастрофические последствия. Если всё знание происходит из ощущений, то откуда мы знаем о существовании причинно-следственных связей? Юм демонстрирует, что мы не видим причинность; мы видим лишь постоянное соседство событий, а нашу веру в их связь порождает привычка. Более того, тщательно исследуя свое «я», Юм не находит ничего, кроме пучка (bundle) различных восприятий, сменяющих друг друга с невероятной скоростью. Декартовский мыслящий субъект, res cogitans, рассыпается в прах. Остается лишь поток несвязанных впечатлений.
Психология репрезентационизма: мозг как камера-обскура
Метафорой познания для Нового времени становится камера-обскура. Сознание – это темная комната, в которую из внешнего мира через отверстия чувств проникают световые лучи-ощущения, отбрасывая на стену проекции-идеи. Задача разума – правильно упорядочить эти проекции.
Современная когнитивная наука унаследовала эту базовую метафору, заменив камеру-обскуру на компьютер. Мозг – это hardware, сознание – software, а восприятие – это процесс получения, обработки и хранения данных о внешнем мире. Проблема репрезентации остается центральной: как нейронные импульсы (биты информации) рождают субъективный опыт красного цвета или вкуса шоколада? Это знаменитая «трудная проблема сознания».
Нейропсихологически это соответствует модели мозга как изолированной системы, обрабатывающей сенсорные сигналы. Префронтальная кора, как центральный процессор, строит модели внешнего мира на основе искаженных и неполных данных. Но эта модель полностью игнорирует энактивный подход, согласно которому сознание не находится в голове, а является процессом динамического взаимодействия всего организма со средой. Мы не пассивные приемники данных, мы активные участники, своим действием порождающие мир.
Эпистемологическая травма и поиск утраченной непосредственности
Мнимый возврат к опыту в Новое время нанес глубокую эпистемологическую травму западному человеку. Мы были приговорены к вечному сомнению: соответствует ли наша внутренняя картина мира внешней реальности? Существует ли она вообще? Не являемся ли мы, как в кошмаре Беркли, снами некоего Бога? Или, как у Юма, просто связками восприятий, лишенными субстанциального «я»?
Это породило то, что можно назвать когнитивным отчуждением. Мир стал холодным, лишенным качеств, механическим. Цвета, звуки, запахи были объявлены «вторичными», иллюзорными. Подлинной реальностью объявлялась бесцветная, беззвучная, описываемая математическими уравнениями материя. Нагваль был не просто отдален, он был дискредитирован, объявлен низшей, обманчивой реальностью.
Парадокс заключается в том, что наука, рожденная из этого порыва к объективности, достигла невероятных успехов, именно потому, что она отказалась от богатства непосредственного опыта в пользу скудного, но поддающегося измерению мира первичных качеств. Но цена этого успеха – это «выветривание мира», как назовет это позднее Эдмунд Гуссерль. Мир потерял свои краски, запахи, свою жизненную полноту, превратившись в гигантскую механическую систему.
В паутине репрезентации
Таким образом, проект Нового времени, начавшийся с громких заявлений о возврате к опыту, завершился его окончательным заточением. Опыт был низведен до набора ощущений, сознание – до призрака в машине или пучка восприятий, а мир – до непознаваемой вещи-в-себе, вызывающей в нас те или иные представления.
Разрыв между человеком и миром был не преодолен, а, напротив, возведен в ранг фундаментального принципа. Мы оказались в ситуации, которую можно назвать паутиной репрезентации: мы пойманы в сеть наших собственных ментальных содержаний, не имея возможности вырваться за их пределы, чтобы проверить, соответствуют ли они чему-либо.
Это тупик. И именно из этого тупика вырастут последующие попытки спасти ситуацию – от кантовского «коперниканского переворота», который попытается найти основания для знания в самой структуре познающего разума, до последующего романтического бунта, который снова, уже на ином уровне, попытается прорваться к Нагвалю, к непосредственному, не опосредованному репрезентацией, переживанию бытия. Но пока западный ум блуждал в этом лабиринте, стены между ним и миром становились все толще, а призрак в машине – все более одиноким.
6. Триумф интерпретации: Немецкая классика и Постмодерн
Если Новое время заперло нас в камере-обскуре индивидуального сознания, оставив мучительный вопрос о соответствии наших внутренних репрезентаций внешнему миру, то немецкая классическая философия и последующий за ней постмодерн совершили поистине революционный шаг. Они предложили радикальное решение: перестать мучиться этим вопросом. А зачем? Потому что никакого «внешнего мира» в том смысле, как его понимали наивные реалисты, просто не существует. Реальность не дана нам – она задана. Она не открывается, а конструируется. Не отражается, а ткется из нитей нашего собственного сознания, языка, культуры, власти. Это момент окончательного и тотального триумфа интерпретации, когда Тональ, мир описания, не просто заслоняет собой Нагваль, но и объявляет его несуществующим, сводя всё сущее к бесконечной, самореферентной игре означающих.
Кант: коперниканский переворот как капитуляция перед Тоналем
Иммануил Кант, пробудившийся, по его собственным словам, от «догматического сна» юмовским скептицизмом, совершает свой знаменитый «коперниканский переворот». Если раньше считалось, что наше знание должно сообразовываться с предметами, то теперь Кант предлагает допустить, что предметы должны сообразовываться с нашим познанием.
Этот поворот кажется освобождением. Мы больше не пассивные зеркала, мы – активные судьи, предписывающие природе свои законы. Но цена этой свободы – окончательный отказ от надежды когда-либо познать «вещь-в-себе» (Ding an sich). Кант делит реальность на два несоизмеримых пласта:
1. Мир явлений (феноменов), который структурирован априорными формами чувственности (пространство и время) и категориями рассудка (причина, следствие, субстанция и т.д.). Это и есть наш мир, мир науки и повседневного опыта. По сути, это и есть Тональ в его наиболее изощренной философской формулировке.
2. Мир вещей-в-себе (ноуменов), который принципиально недоступен для познания. Это – Нагваль, объявленный terra incognita, о которой мы не можем знать ровным счетом ничего.
Таким образом, Кант не преодолевает разрыв; он его легитимизирует и возводит в ранг трансцендентальной необходимости. Мы обречены вечно иметь дело лишь с нашими собственными познавательными структурами. Философия из гносеологии (теории познания) превращается в критику познавательных способностей, в бесконечную инвентаризацию инструментов Тоналя. Мы подобны людям, которые, вместо того чтобы смотреть в окно, с величайшим тщанием изучают устройство самих оконных стекол, их искривления, загрязнения и оптические свойства, в конце концов придя к выводу, что видеть что-либо, кроме этих стекол, в принципе невозможно.
Психологически кантовский переворот – это капитуляция эго перед собственными когнитивными ограничениями. Это осознание того, что наше восприятие – не прозрачное окно, а сложнейший фильтр, искажающий реальность в соответствии с собственными, неизменными законами. Это порождает своеобразный «трансцендентальный невроз» – осознание себя вечным узником собственного черепа, но узником, который смирился со своей участью и даже нашел в ней своеобразное величие.
Гегель: Абсолютная Идея как тотальная интерпретация
Георг Вильгельм Фридрих Гегель доводит кантовский проект до его логического – и тоталитарного – завершения. Если Кант оставил за скобками непознаваемую вещь-в-себе, то Гегель объявляет ее существование излишним. Всё, что существует, – это Абсолютная Идея, Мировой Разум (Der Weltgeist), который последовательно разворачивает себя в истории, природе и человеческом духе.
У Гегеля всё есть мысль. Природа – это «инобытие» Идеи. История – это процесс ее самопознания. Искусство, религия и философия – формы ее осознания самой себя. Разрыв между субъектом и объектом, между мыслью и бытием, полностью снимается в высшем синтезе. Это кажется грандиозным примирением. Но какой ценой? Ценой полного поглощения Нагваля Тоналем. Вся реальность, во всей ее кажущейся плотности и инаковости, оказывается лишь моментом в гигантской диалектической пляске саморазвивающейся концепции.
Гегелевская система – это апофеоз интерпретации. Это мир, который есть не что иное, как бесконечный комментарий к самому себе. Не остается ничего, что не было бы уже мыслью, понятием, моментом Логоса. Даже бунт, отрицание, страдание – всё это лишь необходимые ступеньки на лестнице самопознания Абсолюта. Психологически это создает иллюзию тотального понимания, всеприятия, но лишает мир его тайны, его непредсказуемости, его способности удивлять. Это триумф того, что Уильям Джеймс назвал «интеллектуалистическим заблуждением» – веры в то, что рациональная схема способна исчерпать живую полноту реальности.
Постмодерн: лабиринт зеркал и смерть реальности
Если немецкие классики еще верили в некий единый Разум, способный в конечном счете адекватно постичь (или даже быть) миром, то постмодернизм хоронит эту веру. Начало этому положил Фридрих Ницше с его провозглашением «смерти Бога» и тезисом о том, что не существует фактов, есть только интерпретации. Для Ницше любая интерпретация – это проявление «воли к власти», попытка навязать миру свой перспективный взгляд.