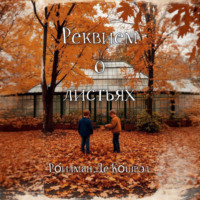Полная версия
МОНОЛОГ
Я – алтарь. Он – жрец. А пища – бескровная жертва, приносимая безвестному божеству по имени Жизнь».
Ещё до переезда Мартина Хингстон нанял рабочих, которые построили у входа в дом и вокруг садовых дорожек пологие, удобные пандусы. Это была не просто бытовая деталь, решающая проблему передвижения. Это был жест-символ. Желание доктора не просто содержать Мартина в четырёх стенах, а дать ему возможность быть частью этого маленького мира, частью жизни, что текла за стенами дома.
Он часто вывозил его в сад, и они подолгу молча сидели под огненными «блинными» клёнами, слушая шуршание листьев на лёгком ветру, пение птиц и гулкое жужжание шмелей. Брамс, устроившись на ногах у Мартина, наблюдал за происходящим вместе с ними. И эта картина – старик, неподвижный юноша в инвалидном кресле и кот на его коленях – была одновременно печальной и умиротворяющей.
Это был покой, купленный ценою былых бурь.
Однажды, сидя так в саду, Хингстон, глядя в пространство, произнёс, словно размышляя вслух:
– «Если не могу склонить небеса, воздвигну ад». Всю жизнь я пытался склонить небеса. Своей наукой, своим скальпелем, своей волей. Я боролся с болезнью, со смертью, с болью. А в итоге? В итоге я лишь воздвигал ад. Сперва вокруг себя. Потом – для других. А теперь… теперь, возможно, я просто сижу в аду, который сам и создал. И смотрю на эти рыжие листья. И в этом есть своя, горькая правда. Свой покой. Покой поражения, который оказался единственно возможной победой.
Мартин слушал. Эти слова не были обращены к нему напрямую, но они были частью их нового общего мира – мира, в котором не было надежды, но был странный, немой диалог.
Так незаметно пролетели недели. Воздух становился всё холоднее и прозрачнее, в нём уже чувствовалось предвестие зимы. И однажды утром Мартин, глядя в окно, увидел, что мир изменился. Рыжий сад, земля, крыши соседних домов – всё было укрыто ровным, пушистым, девственным слоем снега. Он падал всю ночь – не метелью, не яростно, а тихо, неспешно, как бы нехотя, крупными, кружащимися хлопьями. И теперь лежал, сияя в утреннем, ещё слабом солнце, как серебристая пелена, заглушившая шум мира и превратившая всё в стерильный, чистый, немой спектакль.
Было необычайно тихо. Даже Брамс, подойдя к окну, уставился на белизну с немым удивлением, будто видя её впервые.
«Снег. Он всё скрыл. Грязь, очертания дорожек, цвет этих вечных «блинных» клёнов. Всё стало чистым, ровным, безликим. Единым. Это напоминает мне ту самую, желанную небытию пустоту. Но эта – снаружи. Она не внутри меня. Она – вокруг. И она прекрасна.
В этой белой, безмолвной красоте есть та же безразличная, всепоглощающая правда, что и в моём параличе. Мир, в конечном счёте, прост. Он – либо движение, либо покой. Я – покой. И сейчас весь мир на короткий миг уподобился мне. Замолк. Застыл. Принял мою природу.
И в этом есть ощущение не то чтобы родства, но… понимания. Вселенная на моей стороне. Она тоже может быть неподвижной, немой и прекрасной в своём небытийном великолепии».
Хингстон, тепло укутал Мартина в несколько слоёв, усадил в коляску, и Брамс, словно по команде, занял своё законное место на его ногах, приготовившись к традиционной прогулке. Но на этот раз доктор решил вывезти его за пределы сада – в городской парк, находившийся неподалёку, всего в двух кварталах. Там было просторнее, воздух казался свежее, и вид заснеженных аллей, по его мнению, должен был пойти Мартину на пользу, сменив обстановку.
Парк действительно был прекрасен в своём зимнем уборе. Снег хрустел под колёсами коляски, оставляя за ними ровные, чёткие полосы. В центре главной аллеи, хоть до Рождества было ещё далеко, уже красовалась высокая, нарядная ель, усыпанная инеем, словно тысячами блестящих стекляшек, переливающихся в косых лучах солнца.
Они медленно двигались по аллее. Было тихо, почти безлюдно – будний день, утро, морозец отпугивал случайных прохожих. Хингстон остановился, чтобы поправить сползшее одеяло, и в этот момент длинный шерстяной шарф, в который он заботливо укутал Мартина, выскользнул из его ослабевших пальцев и упал на снег, ярким синим, почти ультрамариновым пятном выделяясь на ослепительной белизне.
Хингстон, бормоча что-то себе под нос о старческой неловкости и предательстве собственного тела, наклонился, чтобы его поднять. Но его пальцы, привыкшие к точности хирургических инструментов, вдруг дрогнули, замёрзли, и он не смог сразу ухватить скользкую, промёрзшую ткань. Он был стар, и это внезапное, мелкое проявление немощи в столь простом действии вызвало у него прилив досады и горькой иронии.
В этот момент из-за поворота аллеи, из-за густых елей, чьи ветви гнулись под тяжестью снежных шапок, появилась она. Не как спасительница, не как ангел-хранитель, спустившийся с небес, а как естественная, почти неизбежная часть этого нового, заснеженного пейзажа – будто её появление было предопределено самой логикой этого утра.
«Позвольте, я вам помогу», – раздался молодой, звонкий, но негромкий голос. В нём не было ни подобострастия, ни панибратства – лишь простая готовность помочь.
Девушка, не дожидаясь ответа, легко, почти по-кошачьи подскочила по снегу, подняла шарф, ловко стряхнула с него снег, аккуратно свернула и протянула Хингстону. Она была не броско красива, но в ней было что-то светлое и тёплое, что шло вразрез с окружающей стужей и общим настроением уныния. Тёмно-русые волосы, заплетённые в небрежную толстую косу, выбивались из-под простой вязаной шапки; розовые от мороза щёки, небольшой прямой нос и глаза… Светло-карие, почти янтарные, с золотистыми искорками, полные живого, немого, но ненавязчивого любопытства. Они были полной противоположностью ледяным, серым, как океанский туман, глубинам взгляда Мартина – тёплые, открытые, земные.
Хингстон, слегка опешив от внезапности, взял шарф:
– Благодарю вас, юная леди. Возраст, знаете ли… даёт о себе знать самыми неожиданными способами.
– Да ничего страшного, – она улыбнулась, и её лицо озарилось тёплым, искренним светом, от которого, казалось, стало чуть теплее. – Снег скользкий. Вы же доктор Хингстон, верно? Мы соседи. Я Аврора. Внучка стариков Ларсенов. Приехала к ним погостить в свой отпуск.
Хингстон кивнул, с усилием припоминая почтенную, тихую пару, с которой иногда обменивался парой слов через забор, обсуждая погоду или состояние их общего старого клёна.
Аврора перевела взгляд на Мартина, сидящего в коляске. И тут случилось нечто, чего он не испытывал долгие годы, почти забыв, что подобное вообще возможно. Он внутренне сжался, приготовился к взгляду. К тому самому, в котором читались бы ужас, неловкость, морбидное любопытство, жалость или, что было хуже всего, отвращение.
Но её взгляд был иным. Он был спокойным, открытым, лишённым всякой оценки. Она смотрела на него не как на диковинку, не как на пациента или инвалида, а просто… на человека. Её взгляд скользнул по его лицу, задержался на его глазах, и в её собственных не было ничего, кроме тихого, почтительного внимания.
«Она смотрит. Но не на мою оболочку. Не на коляску. Не на неподвижность. Она смотрит… в меня. Сквозь всё это. Её взгляд… он не колет, не режет, не жжёт. Он… просто есть. Как свет. Как этот снег. Он не судит. Он констатирует факт: ты – есть. И в этом факте нет ни трагедии, ни пафоса. Есть просто… наличие.
«Я мыслю, следовательно, я существую». А если я не могу мыслить? Если я – лишь чистое, немое существование, лишённое внешних проявлений? Существую ли я?
Для неё – да. Её взгляд говорит: да. Ты существуешь. И этого достаточно.
Это… шокирует. Это переворачивает все внутренние схемы. После всех этих лет быть удостоенным простого, человеческого, незамутнённого взгляда – это сильнее любого крика, любой ярости, любой жалости».
– Я видела, как вы гуляете с ним, – сказала Аврора, обращаясь к Хингстону, но её взгляд на мгновение снова вернулся к Мартину, будто включая его в разговор. – Если вам нужна помощь… я могу иногда приходить. Гулять с ним, читать ему вслух. Мне не сложно. Я в парке всё равно гуляю каждый день, люблю снег. – Она сказала это без тени смущения, как нечто само собой разумеющееся.
Предложение было высказано так просто, так естественно, без тени пафоса, снисходительности или желания «сделать доброе дело», что Хингстон на секунду замер, изучая её лицо. Он посмотрел на Мартина, потом снова на девушку, словно ища подвох, скрытый мотив, но не найдя его.
– Это… очень любезно с вашей стороны, – медленно проговорил он. – Но парень не говорит. И не двигается. Это не совсем та прогулка, к которой вы, возможно, привыкли. Это скорее… молчаливое присутствие.
– Я заметила, – тихо сказала Аврора, и её взгляд снова встретился с взглядом Мартина. – Но разве молчание – это так уж плохо? Иногда слова только мешают. Они как этот снег – кажется, что покрывают всё, а на самом деле скрывают суть. А тишина… она честнее.
Она снова посмотрела на Мартина, и в её тёплых, светло-карих глазах – цвета спелой пшеницы или старого мёда – не было ни ужаса, ни любопытства к диковинке. Было просто… присутствие. Ощущение того, что она видит его. Не его оболочку, не его трагедию, не диагноз, а его самого. Того, кто спрятан глубоко внутри этой неподвижной плоти.
И в этом взгляде было странное, почти забытое чувство – равенство.
И тогда, впервые за долгое-долгое время, во внутреннем монологе Мартина – этом вечном, яростном, бесплодном диалоге с самим собой – не вспыхнула знакомая ярость, не поднялась горькая волна отчаяния или ненависти к собственному бессилию. Тишина внутри, та самая оглушительная, ледяная пустыня, что поселилась в нём после смерти Итана и родителей, после краха всех и всяческих надежд, вдруг перестала быть абсолютной. Она всё ещё была там, огромная, холодная, подавляющая. Но теперь в этой безвоздушной пустоше, где уже обосновался тёплый, урчащий комочек по имени Брамс и куда пробивалась уютная тень рыжего клёна за окном, упал ещё один, крошечный лучик.
Ещё один.
Он был слабым, робким, дрожащим, как первый солнечный зайчик на стене после долгой полярной ночи. Но он был. И его света, этого хрупкого, почти призрачного света, пока что хватало, чтобы понять одну простую и невероятную вещь: падение, возможно, продолжается, но теперь в нём появился новый, незнакомый доселе вектор – не вниз, в бездну, а в сторону. В сторону тех самых, забытых, полустёршихся ощущений, что когда-то, в другой жизни, давным-давно, назывались жизнью.
«Падение продолжается. Но дно вечности оказалось зыбким. Или его вовсе не существует. А есть лишь бесконечная череда новых уровней, новых измерений падения. Я провалился из одного ада в другой, а из того – в третий. И каждый раз ад оказывался… иным. Не лучше. Не хуже. Просто иным. Сначала – ад боли и одиночества. Потом – ад предательства и немой ярости. Потом – ад потери и горя. А теперь… что это? Ад тихого пристанища? Ад простых человеческих жестов? Ад кота на коленях и девушки, которая не боится тишины?
Если это ад, то, возможно, я начинаю понимать его изощрённую, дьявольскую логику. Он не всегда бьёт по лицу. Иногда он ласкает по щеке, и от этого больно ещё сильнее. Потому что заставляет забыть, что ты – в аду. И тогда, когда ты забываешь, удар становится невыносимым.
Я должен помнить. Я должен оставаться в ярости. В отчаянии. Это – моя последняя крепость. Моя последняя правда. «Дайте мне истлеть».
Но что, если истлевать… не больно? Что, если это тоже – обман?»
Глава шестая. НЕПОБЕДИМАЯ ЖИЗНЬ
Атмосфера, установившаяся в старом доме Хингстона после появления Авроры, напоминала новое, нестабильное химическое соединение – внешне кристально спокойное, но способное взорваться от малейшей вибрации, от одного неверного взгляда. Это не была гнетущая тишина склепа, где воздух густел от немых криков, и не тягостное молчание двух людей, исчерпавших все слова. Это – тишина перед рассветом, полная трепетного, почти болезненного ожидания; она натянута до предела, словно струна дорогой виолончели, готовая родить либо божественную музыку, либо пронзительный звук разрыва.
Их жизнь обрела новый, причудливый ритм, похожий на древний ритуальный танец, где каждый шаг и каждое движение были выверены и символичны. Аврора вписалась в этот ритм с пугающей естественностью, будто всегда была его частью. Она приходила ровно в десять, и её стук в дверь – негромкий, но уверенный – был подобен удару метронома, запускающему новый виток их странного сосуществования. Этот звук разрезал утреннюю рутину, сотканную из скрипа колёс коляски, шипения пара в старом чайнике и размеренного, словно дремлющего вулкана, урчания Брамса.
«Вот и она. Снова. Её шаги по скрипучим половицам – это не просто звук. Это – топография моего нового ада. Каждый визит – новый контур, новый уровень. Она приносит с собой не только запах зимнего воздуха, мороза и сладковатого аромата домашнего печенья. Она приносит запах другого мира. Того, по которому можно ходить, в котором можно смеяться, не думая, что смех разобьётся о каменные стены собственного тела. Этот запах – словно диверсант, проникающий в нашу крепость, пропахшую пылью веков, лекарственной горечью и тленом несбывшихся надежд. Он взрывает изнутри саму основу моего бытия, потому что напоминает: там, снаружи, всё ещё существует иная реальность. И эта реальность сейчас сидит в кресле у камина».
Она садилась рядом, доставая из своей бесформенной сумки-мешка очередную книгу – всегда неожиданную, будто выбирала её, руководствуясь каким-то высшим, лишь ей ведомым чутьём. И начинала читать. Её голос, ровный и тёплый, был лишён подобострастия или слащавой драматизации. Она читала Платона и детские сказки, статьи о квантовой физике и стихи забытых поэтов Серебряного века. И делала это так, будто вела диалог с равным – с человеком, который может мысленно парировать, спорить, улыбаться или отворачиваться.
«Зачем? Зачем она тратит на меня эти часы, эти слова, эту драгоценную жизненную энергию? Я – братская могила для чувств. Моё сознание – склеп, где похоронены все «зачем» и «почему». Её слова ударяются о базальтовую плиту моего безразличия и отскакивают, не оставляя царапины. Нет. Вру. Это – хуже. Каждое её слово, каждая интонация – тончайшая игла, впрыскивающая в мои мёртвые вены самый коварный и страшный яд – яд надежды. Я чувствую, как внутри шевелится та самая, ненавистная личинка отчаяния, но уже не в своей привычной, яростной ипостаси, а в форме чего-то щемящего, подлого, жалостливого. Она пытается достроить мост, который рухнул вместе с Итаном. Но тот мост был построен в аду – на взаимном отражении нашего уродства. Этот же строится на чём-то необъяснимом. Не на жалости. На её слепой, упрямой, фанатичной вере в то, что под этой оболочкой из плоти и костей всё ещё тлеет человек. И эта вера – самая изощрённая пытка за все годы моего заточения».
Хингстон наблюдал. Он стал тенью, великим инквизитором их маленькой вселенной, безмолвно фиксирующим малейшие колебания в её хрупком балансе. Его взгляд, отточенный десятилетиями у постели безнадёжных больных, выхватывал всё: как зрачки Мартина на долю секунды сужались при особо яркой метафоре; как гортань совершала едва заметное глотательное движение, когда Аврора надолго замолкала, переворачивая страницу; как его неподвижные пальцы лежали чуть иначе, чуть менее безнадёжно, когда в комнате звучал её голос.
«Она ведёт его по минному полю его собственной души, – думал Хингстон, делая вид, что погружён в чтение медицинского журнала. – Каждый её визит – это русская рулетка. Если эта хрупкая, нелепая надежда, которую она в него вселяет, не выдержит и лопнет, обвал будет катастрофическим. Он рухнет не просто в отчаяние – он провалится в него с высоты этого зыбкого утёса, на который она его затащила. И тогда его монолог превратится из мольбы в окончательный и бесповоротный приговор, вынесенный самому себе. Но и обратная сторона… Пробуждение чувств в этом склепе? Желание жить в теле-тюрьме? Разве это не новая, ещё более утончённая и жестокая казнь?»
Сам доктор чувствовал себя старым часовым, охраняющим руины крепости, которая уже пала, но приказ стоять на посту ещё не отменён. Он боялся. Глубокой, старческой, костной боязнью. Он боялся за Мартина. Боялся того тихого, тёплого пламени, которое Аврора неосознанно разжигала в ледяной пустыне его души, предчувствуя, что любой огонь в их мире может быть только разрушительным.
Перелом, как это часто и бывает с самыми страшными событиями в жизни, наступил тихо и буднично. В один из тех дней, когда снег за окном шёл бесконечно, заваливая мир плотным, звукопоглощающим одеялом и превращая реальность в немое чёрно-белое кино, Аврора достала из сумки новую книгу. Небольшой том в тёмно-синем переплёте, без названия и имени автора на корешке, будто стыдилась его или, наоборот, берегла как величайшую святыню.
– Это Ильман Аль Кошнильсен, – произнесла она с лёгкой торжественностью в голосе. – «Потоки неистовых…». Говорят, очень сложно. Но… честно. До боли.
Она начала читать. И с первых же фраз, с первых, выверенных, словно удары кинжала, предложений, в Мартине что-то надломилось. Это не была проза. Это был философский манифест, облечённый в плоть изощрённой поэтической метафоры. Текст о свободе. Но не о той, что дарована движением, а о свободе духа, запертого в темнице немой и неподвижной плоти, в тисках обстоятельств, в лабиринте собственных демонов. Незнакомый автор с хирургической, до жути знакомой, хингстоновской точностью вскрывал абсурд самого понятия «бытие», мучительную, неутолимую жажду смысла в бессмысленной вселенной, яростное, немое противостояние одинокой личности безжалостному и равнодушному Молоху мироздания.
«…и тогда, на самом дне отчаяния, ты понимаешь: единственная подлинная, никем не оспариваемая свобода – это свобода сказать «нет» самому факту своего существования. Отказаться от навязанного дара, от игры, правила которой ты не писал и в которой заведомо обречён. Молчание – это не слабость. Это – единственно достойный ответ. Но не следует забывать – бегство от реальности приводит душу к рабству лжи. Побег – высшая, окончательная форма неприятия. Ты становишься немым укором, живым воплощением абсурда, и в этом – вся твоя сила и вся твоя месть…» – с пафосом, достойным трагической сцены в античном театре, декламировала Аврора, извергая абзац из «Потока неистовых…».
Слова обрушивались на сознание Мартина целыми водопадами раскалённого металла, выплеснувшегося из домны. Это было прямое попадание. Снайперское. Безжалостное. Каждая фраза, каждая запятая была отлита из бронзы его собственных, самых чёрных и отчаянных мыслей, тех, что он годами вынашивал в глубине немого черепа. Это была его клятва «истлеть», возведённая в философский абсолют, облечённая в безупречную литературную форму и предъявленная ему как высшее откровение.
«Да. Да! Да! Вот оно! В этом – весь смысл! В этом – единственное оправдание моего жалкого существования! Я – живой протест! Я – воплощённое «нет»! Моё тело – это мой манифест, написанный кровью и нервной тканью! Я не должен хотеть жить! Желание жизни – это капитуляция! Это – предательство самого себя! Побег от согласия с миром, который создал меня таким! Я должен хотеть одного – исчезновения! Добиться его! ИСТЛЕТЬ! СЕЙЧАС ЖЕ!»
Внутри него всё взорвалось. Это была не ярость, не истерика – это была холодная, кристально чистая, почти математическая решимость. Он достиг точки кипения, но кипение это было ледяным, вымораживающим всё живое. Он сделал свой окончательный, тотальный выбор. В пользу небытия. В пользу немедленного и бесповоротного исполнения своей клятвы.
Он лежал недвижимо, как и всегда, но внутри него бушевала буря такой космической силы, что, казалось, она вот-вот разорвёт его плоть, как бумажный пакет, и разнесёт старый дом Хингстона в щепки. Он собрал в единый сгусток всю свою волю, всю накопленную за годы ненависть, ярость, боль и отчаяние – всё, что составляло суть его «я». И послал этот сконцентрированный, смертоносный импульс в своё тело. Не для того, чтобы заставить его пошевелиться. Нет. Чтобы приказать ему… ОСТАНОВИТЬСЯ. ПРЕКРАТИТЬ. УМЕРЕТЬ. Силой чистого, ничем не разбавленного отрицания. Силой абсолютной команды, идущей из самого центра его существа.
«Умри. Перестань дышать. Прекрати, сердце, свой предательский стук. Сожги себя изнутри, ярость. Я отказываюсь. От всего. От тебя, тело. От тебя, жизнь. От тебя, мир. Я – не хочу. Я – не буду. Я – НЕТ. НЕТ! НЕТ!»
Он чувствовал, как каждая клетка его организма, каждое нервное окончание отчаянно сопротивляется, цепляется за жизнь с животным, слепым упрямством. Предательское тело, бывшее его тюрьмой, теперь отчаянно не хотело отпускать своего узника. Дыхание стало поверхностным, прерывистым. Сердце забилось в панической, сбивчивой аритмии, словно протестуя против его воли. В ушах поднялся оглушительный звон, мир поплыл, окрашиваясь в серые, предобморочные тона. Он шёл к своей цели. К своему единственному, желанному финалу.
Аврора читала, полностью погружённая в текст, не подозревая, что в сантиметре от неё разыгрывается величайшая трагедия человеческого духа. Но Хингстон – Хингстон почуял неладное своим старым, как мир, врачебным нюхом. Он увидел, как побелели суставы пальцев Мартина, вцепившихся в подлокотники коляски в фантомном, неосуществимом напряжении. Увидел мелкую, судорожную дрожь век, восковую, мертвенную бледность, выступившую на лице, и мельчайшие капли пота на лбу, похожие на слепые слёзы.
– Аврора, – тихо, но с такой неоспоримой властью в голосе, что девушка вздрогнула, прервал он её. – На сегодня, пожалуй, хватит. Тебе, наверное, пора.
Она посмотрела на него, потом на Мартина, и что-то щёлкнуло в её сознании – тёмная, неосознанная тревога. Её глаза расширились от мгновенного испуга, но она, привыкшая доверять ему, лишь кивнула, аккуратно закрыла книгу, будто закрывала гроб с дорогим покойником, и, бросив на Мартина последний, полный немого вопроса взгляд, вышла, осторожно притворив за собой дверь.
Хингстон дождался, когда её шаги затихнут в прихожей, подошёл к коляске и опустился на колени рядом. Так, чтобы его лицо, испещрённое морщинами, словно старинная карта былых сражений, оказалось на одном уровне с лицом Мартина. Он не брал его за руку, не пытался нащупать пульс. Он просто смотрел. Его взгляд был невыносимо тяжёлым, усталым, лишённым всякого намёка на профессиональную отстранённость.
– Довольно, Мартин, – произнёс он, и его голос был глухим, сорванным, будто он прошагал много миль по раскалённому песку. – Довольно биться головой о стену. Ты не проломишь её. Ты лишь разобьёшь её в кровь, а стена останется стоять.
Мартин не реагировал. Всё его существо, каждая молекула была сконцентрирована на акте внутреннего самоубийства.
– Я понимаю, – продолжил Хингстон, и в его голосе не было ни капли бархатной учтивости, лишь голая, обнажённая правда. – Я не буду читать тебе проповедей о святости жизни. Это было бы верхом лицемерия, на которое я больше не способен. Я не буду умолять тебя жить. У меня нет на это права.
Он помолчал, подбирая слова. Слова, которые, возможно, нёс в себе всю жизнь, но не смел произнести вслух.
– Ты прав. Абсолютно и безоговорочно прав. Мир – это абсурдная, жестокая и бессмысленная бойня. Твоя жизнь – чудовищная ошибка, пытка, не имеющая ни оправдания, ни смысла. И твоя ярость, твоё отчаяние – единственно адекватный и честный ответ на это.
«Что? Что он говорит? Он… соглашается со мной? Это новая уловка? Более тонкая и изощрённая, чем все предыдущие? Ловушка, приманкой в которой служит сама истина?»
– Но выслушай меня, Мартин. Как равный. Как один свидетель – другому. Ты хочешь причинить себе большую боль? Отлично. Это достойная, благородная цель. Но что такое истлевать заживо? Исчезнуть? Рассыпаться в прах? Стать ничем? Это – слишком просто. Слишком… банально. Смерть – это всего лишь конец. Точка. Она ставит крест на всём. В том числе и на твоём протесте. Твоя ненависть, твоё «нет» растворятся в небытии, и мир даже не заметит этого. Он проглотит тебя, как проглотил миллиарды других, и даже не поперхнётся.
Хингстон наклонился чуть ближе. Его дыхание, пахнущее старением и лекарственным чаем, было тёплым на ледяной, мраморной коже Мартина.
– А что, если твоё желание – это не конец, а процесс? Что, если твоя месть – не в том, чтобы уйти, а в том, чтобы остаться? Остаться живым памятником этому абсурду. Живым, дышащим укором. Ты – последний, кто помнит Итана не холодным трупом на полу, а живым, дерзким, настоящим. Ты – последний, кто видел не маски твоих родителей, а их изнанку – их боль, их страх, их гниющую изнутри вину. Их эгоизм. Ты – свидетель. Единственный и неповторимый. И в этом – вся твоя сила.
«Свидетель…» Слово прозвучало в сознании Мартина не как слово, а как удар колокола, от которого содрогнулось всё его внутреннее пространство. Оно отозвалось глухим, нарастающим эхом, заставив на миг отступить яростный, всесокрушающий напор самоуничтожения.