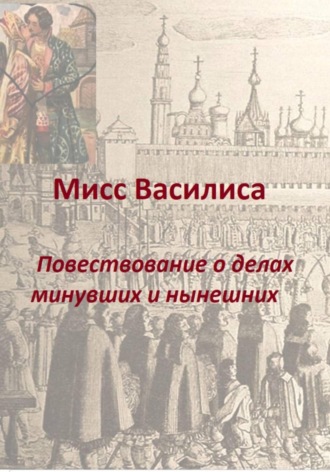
Полная версия
Мисс Василиса. Повествование о делах минувших и нынешних

Труро. Собор.
Наконец, служба в соборе закончилась, и я встретилась с сэром Фрэнсисом Торрингтоном, который выглядел еще солиднее, чем в прошлый раз. Он был не один. Его сопровождала девушка лет двадцати – невысокая с выразительными темно-карими глазами.
– Моя внучка Нэнси. Александра Меш-черская, историк из Массачусетса, – представил нас друг другу сэр Фрэнсис, слегка споткнувшись на моей фамилии. – Нэнси увлекается корнским языком и хорошо говорит на нем.
– Но с кем вы разговариваете? Ведь этот язык вымер в конце XVIII века?
– Я председатель местного отделения Пензансского общества возрождения корнского языка, – серьезно ответила девушка. – На его заседаниях мы говорим только по-корнски, а у одной супружеской пары дети усвоили его раньше английского.
На это мне было нечего возразить. Кажется, дедушка и внучка друг друга стоили.
Поместье Торрингтонов располагалось в нескольких милях от Труро, и этот путь мы проделали в старомодном черном лимузине, которым управлял сам сэр Фрэнсис. Скоро мы остановились перед домом, стоявшим посреди идеально подстриженной лужайки. Это было импозантное здание с ионическими пилястрами и треугольным фронтоном, построенное, скорее всего, при Георге III или в самом начале правления Виктории.
– У вас прекрасный дом, – я не могла скрыть своего восхищения.
– Да, он даже вошел в каталог журнала “Английский дом”, – улыбнулась Нэнси, впрочем, без всякой горделивости: она просто констатировала интересный для гостьи факт.
Мы вошли, и на миг мне показалось, что я очутилась на съемках исторического триллера – мраморная лестница, канделябры, суровые лица предков, устремившие на пришедшего свои немигающие глаза. Я переводила взгляд с одного лица на другое, пытаясь угадать, кто из них тот самый Томас Торрингтон? Он должен находиться где-то между господами в елизаветинских воротниках и джентльменами с буклями и косицами.
– А вот это, – услышала я голос сэра Фрэнсиса, который указывал на чрезвычайно сурового мужчину, который казался очень смуглым из-за потемневших от времени красок, – один из самых славных представителей нашего рода. Это сэр Чарльз Торрингтон, участник Столетней войны. 25 октября 1415 года он бок о бок с королем Генрихом V сражался при Азенкуре. В битве он был ранен в ногу, но несмотря на это сумел сразить одного из знатнейших пэров Франции – Антуана, герцога Брабантского.
Этому можно было поверить, смотря в суровые глаза сэра Чарльза Торрингтона.
– А есть ли здесь портрет Томаса Торрингтона? – спросила я.
– Семнадцатое столетие чуть выше, погодите, я сейчас включу электричество.
Сэр Фрэнсис проворно спустился вниз, и внезапно парадная лестница вспыхнула ярчайшими красками. Золото, зеркала, хрусталь, мрамор – все слилось в бьющую в глаза мозаику. Видимо, поэтому с началом электрического века краски стали глуше, мягче – убранства дворцов были рассчитаны на совершенно иное освещение.
Я поднялась на следующий пролет лестницы и сразу же узнала его. Разумеется, это был Томас Торрингтон, и никто другой. Молодой человек в завитом рыжем парике по моде того времени и в широкополой шляпе с роскошным страусиным пером, он смотрел прямо и просто. Правильные черты лица, небольшой нос, задумчивые серые глаза. Было в нем нечто, что сразу вызывало симпатию. Он казался решительным и в то же время поэтичным, прямым и чувствительным. Этот человек, без сомнения, мог жениться на экзотической красавице. Хотя могла ли русская “красна девица” показаться ему красавицей, это еще вопрос…
– А вот это мой прямой предок, Фрэнсис Годфри Торрингтон. Он приходится родным дядей Томасу.
Я взглянула на следующий портрет и чуть не рассмеялась. Фамильное сходство с нынешним сэром Фрэнсисом было столь очевидно, что заставляло поверить в историю с родом Баскервилей. Однако в данном случае сходство вовсе не было полным, более того, “старый” Фрэнсис казался шаржем, причем не очень дружеским, на “нынешнего” Фрэнсиса. Схожесть черт лица была несомненной, но все остальное отличалось чрезвычайно. Фрэнсис Годфри, живший в XVII столетии, был полнокровным и краснолицым, его было куда легче представить себе за обеденным столом перед добрым кубком вина, чем за манускриптами в библиотеке. На первый взгляд он показался мне жизнелюбивым джентльменом без особых интеллектуальных запросов. Однако истинной доброты в глазах не было, там затаилась хитрость и еще некое качество, которое по-русски очень точно выражают, говоря: “себе на уме”. Короче, дядя Фрэнсис мне не понравился. Однако я не решилась сказать об этом “нынешнему” Фрэнсису, который явно унаследовал от своего предка лишь черты лица, но никак не характер.
К нам присоединилась Нэнси и пригласила выпить чаю. Зная, что такое английский чай, я уже была готова с отвращением глотать горячую густую жидкость, состоящую на одну треть из сахара, на вторую из молока и на третью из заварки, близкой к тому, что в России называют “чифирь”. К счастью, чай разливала сама Нэнси (слуг в доме я пока не видела), и мне удалось получить чашку умеренно крепкого чая без сахара.
Сначала поговорили о чайнике – стаффордширский фаянсовый, он был украшен веселенькой цветной картинкой: домик у речки и влюбленная парочка. Настоящая старинная вещь изящной и тонкой работы.
Затем мы с сэром Фрэнсисом перешли в библиотеку и с головой погрузились в родословную Торрингтонов. Сэр Фрэнсис разложил передо мной ксерокопии документов, статей из старых журналов и газет, переснятые фотографии.
– Начиная с Фрэнсиса Томаса, участника Трафальгарской битвы, более ста лет все Торрингтоны служили на флоте. Многие погибли в сражениях. Вот Чарльз Торрингтон, он погиб в Севастополе во время Крымской войны. – сэр Фрэнсис положил передо мной дагерротип, где были изображены офицеры британского флота середины прошлого века. – Годфри Мэтью Торрингтон, мой дедушка, правда, не погиб, но был серьезно ранен в Первую мировую войну. А вот его младшему сыну повезло меньше, он погиб в самом начале Второй мировой. В Северном море их корабль подбила немецкая подводная лодка. Он был лейтенантом, собирался жениться…
– Как все грустно…
– Увы, – такая у нас судьба, – сэр Фрэнсис снял очки, и его глаза сразу же сделались усталыми и печальными, – Мне кажется… – он остановился. – Не сочтите это за бредни старика… Вы, возможно, подумаете, что я помутился рассудком, но чем больше я изучаю историю нашей семьи, тем больше убеждаюсь в том, что над Торрингтонами довлеет какой-то рок. Конечно, смешно, когда об этом рассуждает современный человек. Древнему греку было бы простительно… Но тем не менее… Вы посмотрите. Все погибают.
– Но ваш дедушка?
– О, да. Он остался жив. Женился, имел двоих сыновей. Но он был лишен обеих ног. Согласитесь, что он вел не самую счастливую жизнь.
– Пожалуй…
– Да, жив, как видите, и я. Но после меня…
Сэр Фрэнсис замолчал, снова надел очки, затем снял их, вынул из кармана носовой платок, и протер глаза.
– Простите. Дело в том, что мой единственный сын Джон… Джон Томас Торрингтон, который, как и его деды и прадеды, был морским офицером, погиб на Фолклендских островах. Это случилось 12 июня, за два дня до капитуляции аргентинского гарнизона… Нелепая смерть – сэр Фрэнсис замолчал, затем протянул мне фотографию, с которой улыбался английский морской офицер: – Вот он. Этот снимок я получил уже после сообщения о его гибели…
Я молча смотрела на фотографию, понимая, что утешить старика невозможно.
– Это было, как вы понимаете, в восемьдесят втором. Жена Джона погибла вскоре в автомобильной катастрофе. А когда Лилиан, его мать и моя жена, узнала об этом, у нее случился обширный инфаркт… Врачи долго боролись за ее жизнь, но увы… Так что вот уже десять лет мы с Нэнси тут хозяйничаем вдвоем, – заключил сэр Фрэнсис с наигранной бодростью. – Ее полное имя Агнес, в честь пра-пра-прабабушки, жены Фрэнсиса Торрингтона. Она, кстати, была настоящая корнуэлка, с крайнего запада.
– Вот откуда у вашей внучки тяга к корнскому языку? – улыбнулась я.
– Возможно. Кто знает? Я вообще уже признавался вам, что верю в какое-то предопределение что ли… Чем больше я вникаю в родословную Торрингтонов, тем больше мне кажется, что их как будто преследует злой рок. Не тем, так иным способом. Как будто кем-то из наших предков было совершено преступление, и теперь все его потомки расплачиваются. Точнее, только потомки по мужской линии.
– Феминистки заявили бы, что это форма дискриминации, – заметила я.
– Бог с ними, – махнул рукой сэр Фрэнсис. – Это началось, как мне казалось, с сэра Мэтью Торрингтона, отца Томаса. Вы знаете, ведь он был обезглавлен при Кромвеле, и его голову выставили на Лондонском мосту. Однако после того, что вы мне вчера рассказали, я стал склоняться к мысли о том, что все-таки все началось с его брата Фрэнсиса Годфри. Теперь мне кое-что становится понятным. В этот период случилось множество каких-то совершенно необъяснимых событий. Посольство возвращается в Англию без Томаса Торрингтона. Глава посольства сэр Энтони Гентли отказывается сообщить о нем какие-либо сведения, а ведь Томаса включили в состав посольства именно по его протекции. Это очень странно. Томас считается пропавшим без вести, скорее всего, покойным. Его мать умирает от горя, дядя вступает в права наследования. Однако Томас возвращается, хотя об этом нет нигде никаких упоминаний. Я сам долгое время был уверен, что он погиб в России или по пути оттуда, причем погиб при каких-то сомнительных обстоятельствах, иначе, зачем было бы окружать его смерть такой завесой таинственности. И вдруг я нахожу неоспоримые доказательства того, что Томас Торрингтон вернулся в Англию, в родное поместье. Все это очень странно, не правда ли?
– Вы имеете в виду эти самые его записки?
– Да, именно! – сэр Фрэнсис, наконец, оживился, его глаза заблестели. Это был истинный энтузиаст, способный забыть обо всем, когда дело касается его любимого предмета. – Внучка обнаружила их среди бумаг конца того века. Это такие, знаете ли, скучные документы – хозяйственные книги, куда записывают каждый потраченный пенс, всякие мелкие счета, расписки на мизерные суммы.
– Ну что вы, это самое интересное. Это счастье, когда сохраняются подобные мелочи. По ним только и можно делать верные статистические прикидки, – с улыбкой возразила я, поскольку очень хорошо знала, о чем говорит сэр Фрэнсис. Мне пришлось перерыть тонны подобных документов, относящихся к различным эпохам. – Сколько ученые бились над расшифровкой критского линейного письма, а когда расшифровали, что это оказалось? Хозяйственные записки – “выдал три горшка масла”.
– Возможно, – кивнул сэр Фрэнсис, – Меня, честно говоря, это никогда не интересовало. Но Нэнси, видимо, была очень аккуратной и расчетливой хозяйкой и хранила все бумаги.
– Нэнси? – не поняла я.
– Нет, я не о внучке, – улыбнулся сэр Фрэнсис, – Она вряд ли станет полезной для будущих историков. Я говорю об Агнес Торрингтон, урожденной Пентуин, жене Фрэнсиса Годфри. Это тоже одна из загадок. Почему сэр Фрэнсис в уже довольно преклонном возрасте вдруг решил жениться на горничной? Не ясно. Не все понятно и с его последними годами. О них ничего не известно. А похоронили его вне семейного склепа – это уж и вовсе странно. Агнес пережила мужа лет на сорок… Ее бумаги хранились отдельно, не в библиотеке, а в сундуке. А туда заглядывал, но, признаюсь, был не очень внимателен. Эти счета… огромная семейная Библия… Нэнси очень увлекается своей пра-прабабкой, и решила разобрать бумаги. И вот нашла такую ценность – записки Томаса. Я их внимательно прочел, но оставалось множество неясностей, и то, что вы мне сообщили, все ставит на свои места. Во-первых, Томас Торрингтон женился на русской. Это объясняет недовольство сэра Энтони Гентли, а также то, что Томас вернулся позже, чем остальное посольство.
– И когда, наконец, он появился в Англии с женой, он встретил такой прием, что предпочел уехать на край света – в Новый Йорк?
– Я многое передумал после нашей встречи в Эксетере. Вам не представляется загадочным, что несмотря ни на что Томас не воспользовался наследством, хотя происходил из старшей ветви Торрингтонов и имел права большие, чем дядя Фрэнсис? Более того, никто из потомков Фрэнсиса Годфри ничего не слышал о Томасе и его появлении в Англии?
– То есть вы хотите сказать…
– Я хочу сказать, хотя, поверьте, мне это тяжело… что мой предок Фрэнсис Годфри узурпировал поместье. Томаса выгнал, не знаю уж под каким предлогом, и все сведения о его появлении уничтожил. Кроме тетради с путевыми заметками.
– Дедушка, но ведь их сохранила Нэнси, – раздался голос за нашими спинами.
В дверях стояла современная Нэнси. Она подошла ко мне и положила небольшой медальон с миниатюрным портретом женщины.
– Здесь моей пра-пра-пра – не знаю сколько раз – прабабушке уже за сорок. Она вдова, но посмотрите, какая красивая? А какие глаза живые. Настоящая корнуэлка, а не засохшая англичанка.
– А ты кем считаешь себя, моя милая? – улыбнулся сэр Фрэнсис, и стало видно, что он очень любит внучку. – С одной -надцатой корнуэльской крови?
– Я считаю себя достойной пра-пра-пра-сколько-надо-правнучкой Агнес Пентуин. Ведь это она сохранила записки Томаса! Запрятала их среди старых счетов. Старикан-то, наверно, туда никогда не заглядывал. Хозяйство она вела, а он ни во что носа не совал. А потом говорят, что женщины сидели на шее у мужчин.
Слушая Нэнси, я вглядывалась в портрет. Действительно, если Агнес здесь за сорок (а сомнений в этом не было, потому что на другой стороне стояла дата: 1689 год), то она была потрясающей красавицей. Темные, совершенно не тронутые сединой волосы, уложенные в изящную прическу по моде времен “славной революции”, выразительные карие глаза, лукавая усмешка, притаившаяся в уголках губ. Это была живая, привлекательная и очень неглупая женщина. Оставалось только удивляться, что она вышла замуж за этого старика с одутловатым тупым лицом.
– Вы говорите, она была младше мужа на двадцать два года? – спросила я, перебив Нэнси, которая продолжала что-то доказывать деду.
– Да, – откликнулась та, – Представляете себе? Женщина вынуждена была выходить замуж, иначе она была никто. Ноль. Только замужество придавало ей вес в глазах общества. И несчастная Агнес была вынуждена выйти замуж, а то бы…
– Дело в том, что Агнес Пентуин была горничной покойной леди Торрингтон, матери Томаса, – объяснил сэр Фрэнсис. – И вряд ли она стала капризничать, когда хозяин поместья, лорд, предложил ей руку и сердце. На ее месте так поступила бы каждая. Скорее, стоит удивляться, что он пошел на мезальянс.
– Ошибаешься, дедушка! – воскликнула Нэнси. – Лично я, если и выйду замуж, то только по взаимному чувству.
– Ты богатая наследница, тебе проще, – грустно улыбнулся дед. – Хотя это меня тоже беспокоит.
– А теперь портрет Нэнси висит у меня над письменным столом, – гордо заявила Нэнси Торрингтон, – Она помогает мне.
Девушка аккуратно взяла медальон.
– Да, да, верни его на место, – сказал сэр Фрэнсис.
Нэнси удалилась, напевая:
Splan, ty steren vyghan, splan
Pyu os, us mar bell a van?
– Теперь вы понимаете, почему известие о том, что у Томаса Торрингтона родился сын, так потрясло меня? – понизив голос, спросил сэр Фрэнсис. – Ведь настоящий наследник поместья – он. Да, речь идет о той самой несправедливости, которую необходимо исправить.
– Вы хотите передать его потомкам поместье? – недоуменно спросила я.
– Ну, по-видимому, не все, а только часть. Поверьте, здесь хватит на всех. Главное найти этих наследников. Пока я считал, что Томас, выгнанный дядей Фрэнсисом (видите, я, как на зло, ношу его имя, правда я не Фрэнсис Годфри, а Фрэнсис Джон), погиб на чужбине, на краю света, Бог знает где, я не понимал, как это сделать. Как избавить нашу семью от висящего над ней рока. А теперь ответ стал очевидным. Помогите мне найти потомков Томаса.
Я пообещала сделать все возможное, хотя в глубине души, ни на что не рассчитывала. Хотя кто знает… Во всяком случае, мое обещание было совершенно чистосердечным.
***
Сидя в автобусе, везущем меня обратно в Эксетер, я наугад раскрыла папку с ксерокопией. Твердый округлый почерк, ровные буквы, какие в эру пишущих машинок, а теперь и компьютеров, уже разучилась выводить человеческая рука.
Меня охватило странное чувство, какого никогда не производит печатный текст. Кто-то вывел эти слова, скользило перо, вот здесь оно запнулось о бумагу, а тут пишущий задумался, подбирая слово… Передо мной было как бы застывшее время. Мгновения чужой жизни, давно законченной.
Когда читаешь в книге напечатанные ровным типографским шрифтом слова, гораздо больше отрешаешься от того, кто написал их. Живой человеческий почерк ни на секунду не даст забыть об индивидуальности писавшего. Так и теперь Томас Торрингтон вдруг показался мне близким, как будто нас и не разделяли три столетия.
“Есть у них весьма распространенное кушанье, которое они называют «икрою»: она приготовляется из яиц больших рыб. Они отбивают икру от прилегающей к ней кожицы, солят ее, мешают ее с перцем и мелко нарезанными луковицами. Это неплохое кушанье. Икры солится больше всего на Волге, частью ее сушат на солнце. Ею наполняют до ста бочек и рассылают ее затем в другие земли, преимущественно в Италию, где она считается деликатесом и называется Caviaro. Мой слуга Сэм разузнал все подробности этой прибыльной торговли. Этот промысел арендуется за известную сумму денег у короля Московии. Сэм так увлекся, что чуть не всерьез подумывает о том, чтобы этим заняться. Все это, конечно, пустые мечты. Иностранцу такой промысел не позволят получить. Я же больше занят изучением русских слов и понемногу знакомлюсь с Москвой, поистине обширным городом…”
Все это было очень трогательно. И подъезжая к своему отелю в Эксетере, я дала себе слово – во что бы то ни стало разыскать сведения о таинственных Томасе и Василисе Торрингтон.
Глава 10. Царь Алексей Михайлович
Гонцы уже успели доложить царю о медленно продвигающемся посольстве. Алексей Михайлович сразу понял, зачем пожаловали англичане, восемь лет назад уже присылали с тем же, хотят, чтобы вернули их купцам право беспошлинной торговли. Но он тогда решение принял и отступать от него не собирался. А эти раз едут, пусть едут. Хорошо, если на свадьбу поспеют.
После смерти любимой жены и детей царь совсем загрустил. В это время, ища дружеского утешения, он сблизился с думным дворянином Артамоном Матвеевым. Это был один из немногих тогда людей нового поколения, сознававший пользу просвещения, любивший чтение, ценивший искусство.
Тому способствовала и семейная жизнь. Жену Матвеев взял из немецкой слободы, она была шотландского происхождения и носила в девичестве фамилию Гамильтон. Православную веру она приняла, согласившись на брак с Матвеевым, и при крещении ее нарекли Авдотьею. Царь понимал и уважал выбор своего друга – Авдотья Матвеева была женщина умная, сильная, не похожая на других.
Царь по дружбе частенько заезжал к Матвееву в гости – и поговорить, и сердцем отдохнуть. Случалось, что царь захаживал к нему даже и в такие часы, когда во всем городе уже собирались ужинать. Раз прибыл он, когда накрыли стол и, заметив неловкость хозяина, попросил всех не стесняться его присутствием и занять свои обычные места, и сам принял участие в семейной трапезе. К столу вышла хозяйка Авдотья Григорьевна.
– Славная у тебя жена, Артамон Сергеевич, – сказал царь, – Да чего ж она только одного сына тебе родила?
– Хватит и одного, – улыбнулся Матвеев. – Разве у женщины другого дела нет, как детей рожать? Пусть читает, науки и искусства изучает. Или у нее один должен быть интерес – сопли вытирать?
– Должна ль женщина жить свободной жизнью наравне с мужчиной? – подивился такому ответу Алексей Михайлович.
– Почему нет? Вот у меня в доме живет воспитанница Наталья, дочь стрелецкого головы Кирилла Нарышкина. Я ее к себе взял, чтобы образование дать.
– Господи! – не поверил царь, – Виданное ли дело – девицу учить?
У самого Алексея Михайловича было к этому времени семь дочерей, и из них, пожалуй, только одну Софью и следовало бы учить. Этой бы мужчиной родиться, такой крутой нрав, что держись! А остальные шесть? Что с науками, что без наук – девки неразумные, одно слово.
– Нет, Артамон Сергеевич, – покачал головой царь, – Не убедил ты меня. Исстари говорят: держи денежку в котомочке, а девку в потемочке. Да ладно, с тобой-то все ясно – своих дочерей народить не сумели – пустоват дом, потому и взяли чужую на воспитание.
Слушавшая этот разговор жена Матвеева пошла за сыном и девицей Нарышкиной. Алексею Михайловичу сразу понравилась черноглазая красавица, поднесшая ему и хозяину кубки. Приняв кубок, царь задал ей несколько вопросов и остался доволен разумными ответами. Во время ужина он не переставал смотреть на воспитанницу своего любимца. Когда же она ушла вместе с хозяйкой, царь спросил Матвеева, в каком они родстве.
– Мы с Федором Нарышкиным, почитай что свояки: моя Авдотья его Авдотье теткою доводится. А Наталья – Кирилла Полуэктовича дочь, значит Федору племянница. Вот и выходит, что родня…
– Да уж… – засмеялся царь. – Вестимо, родня: на ее бабушке сарафан горел, а твой дедушка пришел да руки погрел. Ну, Нарышкины-то не из самых худых… И за кого эту девицу прочат?
– Как Бог даст.
– Надо подумать об этом, – государь как-то особенно ласково улыбнулся.
Уходя он многозначительно сказал:
– Я найду жениха твоей бедняжке.
Прошло несколько дней, и государь опять зашел к Матвееву. Он начал говорить с Натальей и заявил, что подыскал ей жениха. Хозяин, почтительно кланяясь, поблагодарил за милость:
– В добрый час. Был бы человек хороший.
– Да уж, Артамон Сергеич, наверное, неплохой, – веско сказал государь. – Я ее в жены беру!
Матвеев затрепетал от неожиданности и пал в ноги царственному свату:
– Помилуй, государь!.. Не по рылу мне такой каравай. И так уже лиходеи подрывают под меня. Говорят, что ты шагу без меня ступить не можешь, по моей указке живешь, что околдовал я тебя. А узнают еще про это – погиб я совсем. Скажут, что опоил я твое царское величество приворотным зельем.
– Будь покоен, – поднимая своего друга с колен, уговаривал его царь, – можно устроить так, что никто ничего и не приметит. Представляй Наталью по указу на смотрины, да устраивай их поскорей.
Так и решился царь на новые смотрины, когда уж невеста была им выбрана.
Царь не любил смотрин. Слишком хорошо помнились те, первые, когда ему самому было всего осьмнадцать лет. Собрали тогда до двухсот девиц. Алексей выбрал Евфимию Всеволожскую – очень уж красива и пышна была. Но когда ее одели в царственное облачение, она оказалась “к царской радости непрочна” и на глазах у всех упала в обморок. Это приписали падучей болезни. Отца невесты за сокрытие изъяна после пыток сослали в Тюмень. Происшествие с невестой так расстроило царя, что он несколько дней не мог ни есть, ни пить. Тогдашний ближний его боярин Борис Морозов рассеял государеву тоску охотою на медведей и волков. Так и окончились смотрины ничем.
Потом уже Алексей Михайлович дознался, что не было у Ефимьи никакой падучей, а то ли опоили ее чем-то нарочно, то ли волосы слишком туго стянули, так что голова закружилась. И сделали это по указке кого-то из приближенных, а кого именно – доподлинно так и не удалось выведать. С тех пор не любил царь смотрины.
На Марье Ильинишне он без них женился. Слух по Москве прошел, а Морозов до царя его донес, что у боярина Милославского две дочери-красавицы. Морозов же и дал случай увидеть их в Успенском соборе. Царь засмотрелся на одну, пока та молилась. Вслед за тем Алексей велел позвать ее и, разглядевши поближе, нарек своею невестою.
Но уж теперь приходилось согласиться и на смотрины. Царь сам всегда больше всех пекся о внешнем “урядстве” и следил за правильностью отправления любого “чина”.
Итак, все происходило, как полагается. В шести палатах наверху в царском дворце поставили несколько постелей. На них легли девицы – раскинувшись на мягких пуховиках и распустив волосы, они спали, а, вернее, притворялись, что спят. Подле каждой стояли ближайшие ее родственницы, словно купцы, выставляющие свой товар на продажу. Они зорко следили, чтобы царь не обошел вниманием ни одну из девушек. Царь ходил по палатам от одной постели к другой и любовался лежащими на них красавицами. В один из вечеров среди других была привезена и уложена на постель Наталья. Но после этого Алексей смотрины не прекратил. Трудно сказать, спасал ли он тем Матвеева от кривотолков, либо же лицезрение спящих красавиц так понравилось царю, что он решил его продолжить, хотя выбор был сделан им заранее. Скорее, то и другое вместе.
Наталью государь “смотрел” еще зимой, но с объявлением окончательного выбора приличия ради ждал до апреля. Только тогда народ и бояре узнали, что новой русской царицею будет девица Наталья Кирилловна Нарышкина. Со свадьбой Алексей Михайлович, однако, не спешил. При дворе пошли разговоры: уж не надеется ли он найти кого покрасивее? Но причина была в другом: хоть и отвлекся царь ненадолго от своих печалей, но все же не забыл горя и не мог позволить себе устроить праздник, пока не пройдет полный год со дня смерти сына, царевича Алексея.



