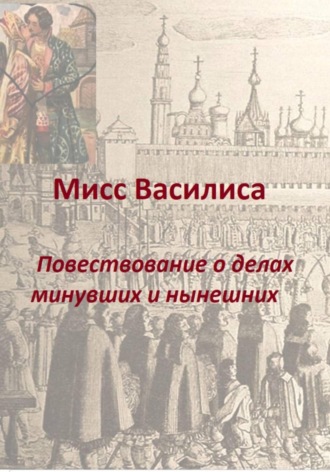
Полная версия
Мисс Василиса. Повествование о делах минувших и нынешних
Глава 11. Первые впечатления
Дневник Томаса Торрингтона в целом мало отличался от записок о Московии, сделанных другими путешественниками. Адам Олеарий, пожалуй, заметил больше интересного, но и здесь имелись какие-то любопытные моменты.
В сущности, почти все в записках предсказуемо. Многое из того, что казалось удивительным и непонятным Торрингтону, было также удивительно и непонятно другим иностранцам, писавшим до него и после него.
Посольство пересекло границу 9 декабря. Ночевали в Печорах при монастыре. Разумеется, Томаса сразу же поразили русские бревенчатые дома. В Англии строили в основном из камня, бывали, конечно, и деревянные постройки, но уж только не бревенчатые. Да и из чего их строить – ведь к XVII веку лес на юге Англии уже почти свели.
Разумеется, поразило и тепло в помещениях. В Англии с отоплением плохо, есть, конечно, камины (на редкость неэкономичные), но в спальнях, например, их не бывает (считается, что под одеялом и так тепло), и там температура лишь на несколько градусов выше, чем на улице. А морозом по-английски величают любую температуру ниже нуля. Если бы в Англии ударил русский морозец, это был бы без преувеличения конец света.
Вообще первая ночевка многим поразила Томаса. “Дома топятся печами так жарко, что трудно дышать. Сняли с себя одежду до рубашек. Даже не верится, что снаружи такой холод. Перед ужином натопили для нас то, что называется баней, и предложили нам помыться. Оказалось, мытье здесь публичное занятие. Мы же были поначалу смущены необходимостью раздеваться друг перед другом”.
Немудрено, что мытьё по субботам изумляло европейцев. Это в Средиземноморье кое-где по римской традиции так и не переставали регулярно мыться (и общение с соседями-мусульманами подталкивало к соблюдению гигиенических процедур). А Средняя и Северная Европа (кроме, конечно, финнов) на зиму точно предпочитала накопить для тепла побольше кожного сала. Отсюда и пристрастие к духам. Перемены наступили в XIX веке, а в наше время, как и во многом другом, моду задает не знающая удержу Америка: здесь положено принимать душ как минимум дважды в сутки. Но разве душ это мытьё?
Из Печор в Псков ехали в санях. Страна показалась Томасу малозаселенной, она и сейчас кажется такой же человеку, приехавшему из Европы, где нет ни одного неосвоенного клочка земли.
Только в Пскове Томас узнал о том, что “в России членам иностранных посольств можно покидать отведенные им дома лишь по специальному разрешению властей”. А он-то, видимо, рассчитывал на свободу передвижения. В России, однако, к иностранцам всегда относились подозрительно, но при этом не скупились. Так, все члены посольства, в том числе и слуги, получили по шубе. Сметливый Сэм сразу оценил возможную стоимость “поистине царского” подарка и решил, что “если на обратном пути не отнимут, он свою шубу в Англии продаст и купит хорошую лошадь и сбрую, а то и коляску”.
Тома, разумеется, удивили русские часы, в которых вращается циферблат, а направленная вверх стрелка всегда неподвижно стоит на месте. Еще бы! Стрелку-то проще крутить, чем циферблат. Но экономия усилий никогда не была в русском характере.
Ну, и конечно же водка, которую в те времена чаще называло вино! Вот уж действительно – чудо из чудес, о котором по миру ходят легенды. “Пьют русские много и сильно обижаются, если кто-то из наших пропускает тост или выпивает не все. Тогда вливают чуть ли не силою”. Ну, и поныне мало что изменилось.
Неизвестно, как понравился этот напиток Томасу, но запись от 13 декабря кончается словами: “Сегодня больше писать не могу – очень болит голова.” Нет, не получить ему Орден Подвязки за такие признания.

А. М. Васнецов. Старая Москва. Метель.
Пропущу описания русской зимы, снегопадов, морозов, саней и медвежьих полостей. Об этом писалось столько раз, что просто непонятно, почему каждый иностранец, попадая в Россию, вновь этому поражается. Ладно простые люди, но Наполеон с Гитлером, могли бы об этом вспомнить, готовя свои кампании на восток. Не подумали… Или понадеялись на русский авось?
В Новгороде, куда посольство добралось 23 декабря, Томас делает остроумное замечание о том, что кроме Василия, сопровождавшего их русского офицера, “все остальные кажутся мне похожими друг на друга, как близнецы: все бородатые, русые, одеты почти одинаково”. Да, для белого все черные на одно лицо, для черных – все белые.
“25 декабря. Справляли Рождество. Нам привезли рейнского и французского вина. Выпили понемногу – по одной–две бутылки, едва ли больше, но потом всем захотелось русского вина. Местный климат к нему более располагает. Стол сегодня отменный и весьма разнообразный. (Перед рождеством русские мяса не едят; из постной пищи у них очень хороши особенным образом засоленные грибы, огурцы и капуста, а также местная редька.)”
Вот это – подлинная широта вкусов! Европа всякий гриб, кроме безвкусного шампиньона считает смертельной отравой, огурцы консервирует в сладком маринаде, от квашеной капусты многие и поныне почему-то затыкают нос, а из помещения, где натерта неизвестная на Западе черная редька, норовят вежливо, но быстро удалиться.
“Воевода пришел поздравлять нас с праздником, и я попробовал с помощью Блэксмита узнать у него, долго ли нам добираться до Москвы, будем ли там хоть к Новому году (ведь как раз месяц впереди). Воевода расхохотался и сказал, что Новый год мы, если даст Бог, будем справлять уже в Англии 17. Я предположил, что русские, как и поляки, живут по папскому календарю, и, значит, Рождество у них уже прошло. Но оказалось, нет. Русские отмечают Рождество Христово как и положено – 25 декабря, то есть сегодня.
Наш переводчик долго беседовал с воеводой и выяснил совершенно невероятные обстоятельства: оказывается, в России сейчас не 1670 год, а 7179! Воевода стал серьезен и уверял, что только так и следует: от того дня, когда Господь создал небо и землю и ведется счет годов. А думать иначе – большой грех. Отрадно было, однако, узнать, что кое в чем московиты ближе к нам, чем к папистам: по крайней мере не перепутали дни христианских праздников 18.”
В Новгороде англичанам, наконец, позволили выйти в город. Томас с нетерпением ожидал увидеть тех самых медведей, что бегают по улицам. Обещанных слугой зверей не было.
– Ну, что Сэм, – разочарованно спросил Томас, – И где же твои медведи?
– Спят, сэр! – не моргнув глазом, ответил слуга, – Они лежат в своих берлогах до самой весны и питаются только тем, что сосут лапу.
Поверить в такие небылицы Томас никак не мог. Путешествие меж тем продолжалось.
Глава 12. Ордин-Нащокин
“27 декабря. Покидаем Новгород. Держим путь на город с длинным названием, которое я не запомнил, но начинается оно на Wish 19. Стоит задумать какое-нибудь желание!”
Здесь, как и в Торжке, англичан выпускали на улицы, и Томас, наконец, смог разглядеть русских красавиц. Похоже, они оставили его совершенно равнодушным. “Когда мы шли по улице, в окнах показывались молодые женщины. Они были толсты, ярко разодеты и странно накрашены: лицо белое, как мел, а на щеках ярко-красные круги, которые, как мне сказали, делаются свеклой. Но если мы подходили ближе, они прятались. Похоже, они здесь пугливее, чем в других странах.” Интересно, чем могла приглянуться ему Василиса-Бэзилайза?
“3 января. Вчера прибыли в Тверь. Этот город лежит по обоим берегам Волги. Говорят, это самая большая река в Московии. Однако ей не сравниться не только с Темзой, но даже с нашей корнуэльской речкой Фал 20. Видел большого медведя. Его водит на цепи чернобородый мужчина и заставляет плясать под дудку. Значит, медведи зимой не спят, а Сэм с переводчиком меня просто разыграли.”
Вот прекрасный образчик свидетельств очевидца. Такова достоверность доброй половины разных заметок и мемуаров. Толкуй, как хочешь.
“В одной лавке я интересовался ценами на товары и попросил купца записать мне их. Он писал буквами! Непонятно, как же русские торгуют, если не знают цифр”.
Интересно, как по мнению Торрингтона, торговали древние греки, которые также не знали наших арабских цифр. Людям свойственно считать свои знания совершенно естественными, не был исключением и Томас, человек неглупый и образованный. Впрочем, считать при помощи славянских цифр действительно непросто. Скажу честно, я даже с оглавлением в церковнославянской Библии не справляюсь. Ладно еще Глава I (десятая), Стих А (первый), а вот Псалтирь начинается на странице ХЦЗ – пойди найди!
“Тверь – последний большой город по пути к Москве, поэтому Василий уже послал гонца к русскому канцлеру со сложной фамилией, которую я не помню, сообщить, что мы подъезжаем. Он должен выслать навстречу нам специального офицера – «пристава».”
Канцлером со сложной фамилией был, разумеется, Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин. Такое имя англичанину с первого раза не запомнить, чего стоит одно только “ЩА”. Это настоящий камень преткновения. Уж кому-кому, а мне, Мещерской, это хорошо известно!
***
Афанасий Лаврентьевич был, несомненно, выдающимся политиком и дипломатом, знавшим польский, немецкий и латинский языки, что для русского человека того времени было редкостью. Ордин-Нащокин заведовал Посольским приказом и носил громкий титул “царственныя большия печати и государственных посольских дел оберегатель”. Понятно, что именно к нему обратился Алексей Михайлович с вопросом о посольстве.

Ближний боярин и воевода Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин. Неизвестный художник. XIX век c рисунка более раннего времени.
– Афанасий Лаврентьевич, скажи, где сейчас англичане?
– В Твери должны быть.
– Ну, пусть с ними не особенно торопятся. Вот после Крещенья – милости просим. Пусть к свадьбе моей поспеют. Все веселей будет, и Наталья на заморских гостей посмотрит.
– Разумно.
– Ну а еще что скажешь?
Собственно, от доклада Ордин-Нащокина царь не ждал ничего нового. Со Швецией, слава Богу, замирились, в Польше, вроде, тихо, а вот в новых землях неладно. Давно ли Украйна под руку Москвы просилась? Войну с Польшей начали, чтоб украинцам помочь. Победили, хоть война и трудная была. А что теперь? Не хотим, говорят, в России больше жить. Знать, для того только гетман Хмельницкий в дверь стучался: пустите, пустите! – чтоб от поляков убежать. А как от них освободились, так и благодарствуйте не сказали – самостийности захотели. Царь тогда сильно рассердился: “С Яном Казимиром, королем польским, без чужой помощи справиться не могли, а со мной собираются? Нет, одни они в этом деле остаться побоятся. Со мной они против поляков пошли, как бы против меня они с турками не сговорились. От них всего ждать можно. Только где они потом союзников найдут, чтобы от турок освобождаться?”
За последние годы царю пришлось вести две изнурительных войны с Польшей и со Швецией, а имея таких соседей, как турки, всегда можно ждать войны и с юга: украинцы их не позовут, так сами явятся. Этим предлог особый не нужен. Крымский хан, турецкий данник, бесперечь в русские земли набеги совершает, до Москвы бы дошел, когда бы не останавливали. Сам хан на такое не решился бы – султан турецкий за ним стоит, козни строит, на Россию поглядывает.
– Да вот донесли мне, что крымский хан готовит новый набег, побуждаемый к тому турками.
Царь задумался и сказал:
– Что-то надо с турками делать. Не поискать ли нам союзников против них в Европе?
Нащокин с готовностью ответил:
– Государь, ты ведь знаешь, Польша нам всегда готова помочь против турок. Сама от них страдает.
– И пусть страдает. Надоел ты мне, Нащокин, со своей Польшей, – отмахнулся Алексей Михайлович. И ему, и всем боярам давно была известна страсть Ордин-Нащокина к Польше, полякам и всему польскому. Из-за этой страсти, как говорили его завистники, чуть войну Польше не проиграли. – Я тебе говорю – в Европе, – сказал царь, – а ты мне все Польшу суешь, будто кроме нее в Европе и нет никого.
– С французким королем говорить о турках – только зря время терять. Сам он от них нападения не ждет – далеко слишком, а что турки его врагов колотят, так то ему на руку, – начал рассуждать Нащокин. – С германским императором попробовать можно. От турок он не меньше нашего страдает, если не больше. С английским королем – не знаю.
– Посольство-то от него, небось, не за тем едет…
– Не за тем, тут и гадать нечего. Помните, как молодой Карлус на трон взошел, они уже посольство присылали, чтоб вернуть права английским купцам.
Алексей Михайлович помнил то посольство. Он помнил вообще все посольства, что приезжали в Москву, и любил принимать их. Толку для дела в них особого не видел, но веселья бывало много. Помнил он и то, из-за чего приезжали в прошлый раз англичане, и то, что отказал им. Англичане издавна торговали в русской земле на особых правах, пошлин никогда не платили. Но русские купцы стали выказывать недовольство, до царя с жалобой дошли: все дело нам англичане портят, наше задешево покупают, свое втридорога продают. А тут еще чужие товары под видом своих продавать стали. Пусть, говорят купцы-англичане или убираются, или торгуют, как все. Понял царь купеческую заботу, да как отказать в том, что испокон веку повелось? Повод, правда, скоро нашелся. В Англии вор и разбойник Оливер Кромвель, короля законного сбросив, к власти пришел. Тогда доставили в Архангельск, куда купцы английские приплывали, царский указ, в котором сказано было, что государь “прежде позволял им торговать беспошлинно ради братской дружбы и любви короля Карлуса, но так как англичане всею землей своего короля Карлуса убили до смерти, то за такое злое дело не доведется им больше торговать в Московском государстве”.
– Что ж, не возвращать же им права, – покачал головой Ордин-Нащокин. – Вор Оливер-то умер, его, как мне сказывали верные люди, мертвого потом сказнили. Теперь пришел король Карлус Второй.
– А что? – развел руками Алексей Михайлович, – Когда он прислал ко мне своего барона Карлейля, я купцам английским вернуться позволил, правда, на беспошлинную торговлю разрешения не дал.
– Видно, опять просить едут, – согласился Ордин-Нащокин.
– Послушай, Афанасий, – обратился царь к Нащокину, – а что как мы англичан поманим: вы с нами против турок, а мы вам торговать, как прежде, разрешим?
– Мудро. По-польски это называется войсковы фортель – военная хитрость. – сказал Нащокин.
– Еще раз Польшу помянешь – в Коломенском пруду утоплю, ты меня знаешь. – Государь изобразил недовольство.
Нащокин не слишком испугался царского гнева. “Утопление” в Коломенском пруду с молодости было любимой забавой царя – сбросит кого в воду как бы в наказание, а сам смеется, с берега смотрит, как тот выкарабкивается.
Глава 13. Торрингтоны, отзовитесь!
Я сделала все возможное, чтобы сдержать обещание, данное сэру Фрэнсису, и не просто из симпатии к нему и его внучке, и уж, конечно, не их мистических соображений. В рок, довлеющий над Торрингтонами, верилось слабо. В том, что офицеры погибают на войне или возвращаются домой калеками, нет решительно ничего сверхъестественного. Однако меня продолжала занимать судьба Томаса Торрингтона и его семьи. Возможно, тут сыграла роль его женитьба на русской девушке. Трагичность истории этого брака, не принятого на обеих родинах, скитания и гонения на чужбине – все это не могло не тронуть. А ведь мне было известно далеко не все. Что стало с их сыном, и как поступила в конце концов пресвитерианская община Хартфорда? Хотелось верить, что все же люди оказались людьми, однако, увы, история слишком часто дает нам примеры того, что зрячие подчиняются слепым фанатикам.
Итак, я поставила своей целью сделать все, чтобы разыскать Торрингтонов. При современной компьютерной системе и средствах связи такая работа уже не кажется титанической. Я вошла в Интернет и передала объявление всем долам и весям, смысл которого можно было бы выразить в двух словах: “Торрингтоны, отзовитесь!” В результате я поначалу стала жертвой нескольких мошенников, подверглась ограблению, едва не подверглась насилию и чуть не перешла в мормонскую церковь.
Дело в том, что мое воззвание не осталось безответным. Прошло совсем немного времени, и Торрингтоны начали звонить, присылать факсы и связываться со мной по электронной почте.
То и дело раздавались телефонные звонки, и мне говорили:
– Попросите миссис Меш… Меш-чер-ска-йа… Я правильно произношу вашу фамилию? Я по поводу вашего объявления. Нет, нет, моя фамилия не Торрингтон, я Патриция Хант, Тусон, Аризона. Когда я училась в начальной школе в нашем классе была ученица с фамилией Торрингтон. Как ее звали? Кажется, Джейн. Или Бесс… Нет, все-таки Джейн. Или, погодите… я точно вспомнила – ее звали Дороти. Да-да, Дороти Торрингтон. Нет, она уехала из нашего города. Больше я ничего не знаю. Кто были ее родители? Нет… Мы были детьми, не очень интересовались такими вещами… Да, кстати, как насчет небольшого вознаграждения за информацию.
Или:
– Хэлло, миссус! Моя Торрингтона! Джошуа Торрингтона с Ямайки! Моя говори с отель “Карибия”, тута Кингстон место его. Моя звони “коллект”. Это ничего? А то моя телефона рядом не пускай. Кто? Не слышу… Мой папа? Тута, Ямайка родился, вырос. Откуда что? Откуда его Торрингтона? Это деда! Деда! Деда фамилия понравился. Отель джентлемена отдыхала, деда фамилия слушала, фамилия себе забирай. Вот так. До свидания, миссус.
“Коллект”, значило, что разговор оплачивает тот, кому звонят, то есть я. Так происходило в доброй половине случаев, иногда к тому же намекали на “вознаграждение”… Впрочем, попадались и серьезные люди, которые в объемистых пакетах присылали свои родословные с подробной характеристикой каждого предка. Иногда эти работы напоминали целые романы, и некоторые были написаны не без таланта.
Однако на поверку все они оказывались не теми Торрингтонами. Были по крайней мере две большие ветви Торрингтонов, не имевших никакого отношения к корнуэльским Торрингтонам. Впрочем, эти очень рано разделившиеся ветви, ведущие свой род от норманна Гильома (Уильяма) де Торитон, жившего в XII веке и построившего замок, на месте которого вырос английский город Торрингтон. Его-то потомками и были девонширские и кентские Торрингтоны.
Пару раз я была уверена, что, наконец, напала на след потомков Томаса Торрингтона, но повторные проверки архивных записей и метрик показывали, что какие-то факты оказывались ошибочными.
Попадались и просто мошенники, которые сразу ставили условие: за самую подробную информацию о Торрингтонах они назначали плату, величина которой колебалась от пяти долларов до пяти тысяч. Смею заверить читателей, что я не откликнулась ни на одно из этих предложений. Мне почему-то казалось, что потомки Томаса и Василисы должны быть выше подобных сделок.
И вот в один прекрасный день мне позвонила женщина, и приятным интеллигентным голосом сообщила, что у нее в роду нескольких женщин звали редким именем Бэзилайза. Саму ее зовут Энн Уолсинг, но в девичестве она носила фамилию Торрингтон. Она жила в Нью-Йорке, и была готова встретиться со мной. Энн Уолсинг считала, что самым лучшим способом увидеться будет, если я приеду прямо к ней домой, чтобы она смогла на месте не просто рассказать все, что она знает, но и показать дагерротипы и фотографии предков, их письма и все такое прочее и, возможно, продать их мне, включая письма, относящиеся к концу восемнадцатого века. “Ко временам первых президентов”, объяснила она.
Я была вне себя от радости. Даже муж, который с самого начала скептически относился к моей затее, теперь обнаружил некоторый энтузиазм.
– Если только это не какая-нибудь сумасшедшая идиотка, – заметил он со свойственной ему манерой сомневаться во всем. – Или не очередная аферистка.
– Ну, если это аферистка, то я сразу это пойму. Вряд ли кто-то будет подделывать письма восемнадцатого века за пару сотен долларов. Подобная работа стоит куда дороже.
В глубине души я, конечно, понимала, что это может быть такой же ложный след, как и все остальные, но не хотелось в это верить. Так соблазнительно думать о том, что нашлись потомки Василисы, пусть даже Бэзилайзы. Я даже хотела было позвонить сэру Фрэнсису в поместье, но затем решила не обнадеживать старика раньше времени. Кто знает, вдруг все окажется не так, как расписывает эта Энн Уолсинг, сменившая одну благородную английскую фамилию на другую.
В день, когда была назначена встреча, Энн позвонила мне и попросила привезти деньги наличными, поскольку они ей понадобятся сразу же. Если у меня и возникла какая-то тревожная мысль, то я постаралась ее заглушить – очень не хотелось расставаться с мечтой о том, чтобы найти Василису и Томаса. Поэтому, отметя все сомнения, я села за руль и понеслась к Нью-Йорку, сняв со счета две тысячи долларов.
Об остальном, я думаю, вы уже догадались. Следовало бы догадаться и мне, если бы я не теряла разум при одном упоминании фамилии Торрингтон.
Разумеется, никакой Энн Уолсинг я не увидела. На лестнице в указанном мне доме стояли двое. В тот самый миг, когда я увидел их, я поняла – это по мою душу. И действительно, они преградили мне проход и без обиняков потребовали все наличные деньги, заметив, что я не отделаюсь пятью долларами, которые каждый американец носит в кармане на случай ограбления.
Я вернулась домой, потеряв две тысячи долларов, однако от своего твердого намерения найти Томаса и Василису не отступила. Возможно, это было простое упрямство, но мне казалось, что мною движет иное, более высокое чувство.
Я расширила поле исследования и передала свои сообщения всем университетам и колледжам не только США и Соединенного Королевства, но и Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Индии – кто знает, куда могло занести людей в течение бурных восемнадцатого и девятнадцатого столетий.
Одновременно я поехала в Торрингтон, штат Коннектикут. Он оказался именно таким, каким я его представляла: небольшой (чуть больше 30 тысяч жителей) и для Америки очень старый. Когда-то он был окружен прекрасным хвойным лесом и жители занимались изготовлением корабельных мачт. Потом лес окончательно свели (не было тогда “зеленых”!) и городок переключился на текстиль и бронзу. В небольшом историческом музее первая половина XVIII века была представлена, в основном, стычками с индейским племенем могавков. На вопрос, с чем связано название этого города, ведь основали его переселенцы из Виндзора, я получила у одного из сотрудников музея маловразумительный ответ, что еще до 1735 года это место называлось Torrington's Hut, то есть “Хижина Торрингтона”. Но с чем связано такое название, он не знал и только разводил руками. Ниточка обрывалась.
Я уже совсем было пала духом, когда раздался очередной звонок и очень вежливый мужской голос сообщил мне, что со мной говорит представитель Церкви Иисуса Христа Святых Наших Дней, который узнал о моем интересе с генеалогии семьи Торринтон.
“А ведь и точно!”, пронеслось у меня в голове, “Они же очень интересуются генеалогией”.
– Да, да, я буду очень вам признательна, – поспешно ответила я, не задумываясь о последствиях.
Церковь Святых Наших Дней, другими словами, мормоны известны тем, что собирают подробнейшие генеалогии. Мне лично была знакома объемистая работа, посвященная семье Роговских – прилежный член мормонской церкви, носивший эту фамилию, смог собрать сведения о почти всех без исключениях своих однофамильцах. Впрочем, мой знакомый немецкий юрист Ральф Роговский утверждал, что они пользуются всего-навсего телефонными справочниками, которые заносят в компьютер.
Что ж, это тоже метод. Я за недостатком времени не могла заняться даже таким простым, хотя и несколько туповатым трудом.
Мормоны сработали на удивление быстро. На следующий же день на пороге моего дома появились два молодых человека, столь аккуратно причесанные и одетые в такие приличные – неброские и добротные – костюмы, что я сразу догадалась, что передо мной мормонская молодежь, отрабатывающая свои два года миссионерской повинности, которая столь же обязательна, как служба в израильской армии.
– Миссис Мещерская? – сказал один из них, даже не запнувшись. – Мы пришли к вам от Церкви Святых Наших Дней. Я – старейшина Робинсон, а это старейшина Джонс.
Обоим старейшинам на вид было года по двадцать два, от силы двадцать три. Это самый низший чин в мормонской иерархии.
Старейшина Джонс, который пока молчал, выглядел не столь уверенным в себе, как старейшина Робинсон. По-видимому, роль приставалы-миссионера давалась ему куда труднее, чем коллеге.
Я предложила молодым людям войти. Удобно устроившись в кресле, старейшина Робинсон подал мне довольно толстую брошюру, озаглавленную “Семья Торрингтон”. Кроме этого из его сумки была извлечена “Книга Мормона”, “Учение и Заветы Джозефа Смита” и “Драгоценная Жемчужина”. Я поразилась, что они с первого же раза принесли весь свой товар, но после краткой беседы поняла, что им известно обо мне очень многое, и, считая меня известным ученым, они сразу пустили в ход тяжелую артиллерию.



