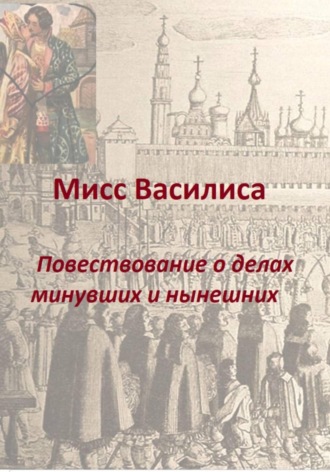
Полная версия
Мисс Василиса. Повествование о делах минувших и нынешних
– Вы бы не отказались послушать кое-что об учении великого пророка Джозефа Смита? – пристально глядя на меня, спросил старейшина Робинсон.
Отказываться было неудобно, поскольку мою просьбу они удовлетворили быстро и столь полно, как могли. Поэтому пришлось, скрепя сердце согласиться. Я усадила их в гостиной и подала апельсиновый сок и чай из лепестков липы. Настоящего чая, равно как кофе, пива, вина, не говоря уже о таком зелье как виски и водка, ни один мормон не пьет ни капли. Можно было бы подумать, что они только притворяются. Но нет. Они ведь не случайно всегда ходят парами – один наблюдает за другим. Такое круговое соглядатайство очень укрепляет добродетель.
– Каждый разумный человек под небесами, который, будучи осведомлен об этом, не признает, что Джозеф Смит – это пророк Бога, такой человек – во тьме… – начал хорошо поставленным голосом старейшина Робинсон.
Я отключилась и стала думать о колонизации Калифорнии и Аляски, а также о том, что надо хлопотать о командировке в Санкт-Петербург и Москву, потому что без архивов Российско-Американской компании мне не обойтись.
Задумавшись, я и не заметила, что старейшина Робинсон закончил свое выступление.
Я вежливо, но прохладно поблагодарила молодых людей, которые выпили еще по чашке липового чая и предложили мне сотрудничество с мормонской церковью – я смогла бы применить свои исторические знания и заняться составлением такой же книги о Мещерских, однако я попыталась убедить их в том, что эта работа не будет благодарной – Мещерские в целом, я уверена, окажутся более глухи к учению Джозефа Смита, чем Торрингтоны.
– Кто знает? – склонив голову, сказал старейшина Робинсон, – Наша миссия в Варшаве и Кракове работает весьма успешно. – Тут я искренне повеселилась (про себя, конечно): Если для среднестатистического американца любой Mr. Somethingsky – поляк, то эти знатоки генеалогий могли бы быть более подкованы в ономастике: наша фамилия все-таки происходит от мещеры, народа, жившего от Польши на порядочном расстоянии.
После этого мормоны, эти и другие, приходили ко мне еще восемь раз. После третьего я перестала поить их соками и фруктовыми чаями, а после пятого наотрез отказалась выслушивать дальнейшие проповеди. Как человек в экстремальной ситуации мобилизует свои силы и совершает то, на что не способен в обыденной жизни, так и я перед лицом мормонской опасности решительно отбросила свою интеллигентскую мягкотелость.
Глава 14. Святки
Василиса проснулась как всегда рано и сразу стала кликать свою мамку:
– Анися! Анися!
Анися, старая татарка, нянчила когда-то еще василисину мать, дочь богатого касимовского купца. Когда пятнадцатилетнюю Асию взял в жены Савва Кулешов, та привезла няньку с собой в Москву. Кулешов заставил свою жену креститься, наречена она в крещении была Евпраксией, но татарская мамка так и не смогла выговорить этого чужого имени, да домашние и звали ее Асей. Асия-Евпраксия родила Кулешову дочь, но прожила недолго.
Анисю крестили Анисьей. Пожелание, скрытое в ее настоящем имени 21, не помогло ни в Касимове, ни в Москве: замуж она так и не вышла, и самым дорогим существом стала для нее Василиса. Вот только имя девочке досталось длинное и некрасивое. То ли дело – Силися!
– Иду, иду, Силися! – раздался хрипловатый, но добрый голос Аниси.
За двадцать лет, проведенных в Москве, она научилась сносно говорить по-русски, но не забыла и родного татарского. Втайне от хозяина говорила со своей воспитанницей на родном языке и рассказывала про справедливого Бога Аллаха, про пророков Мусу и Ису, про великого Мухамеда и его дочь Фатиму. Василиса прекрасно знала, что Бог только один, а Иса – не просто пророк, а Сын Божий, но мамушкины сказки увлекали, особенно страшными (а потому интересными) были истории про борьбу Искандера с длинноухими великанами Яджуджем и Маджуджем. Чтоб не перечить Анисе, она даже повторяла вслед за ней, что нет Бога кроме Аллаха, но относилась к этому как к игре в сказку – игре, которая связывала только их с Анисёй.
– Чиво звал? – спросила Анися ворчливо, но девушка давно привыкла к грубоватой речи своей мамки и знала, что та любит ее, как своих детей не все любят. Василиса платила ей тем же. Рано оставшись без матери и почти не помня ее, она тоже привязалась к Анисе, как к родной.
– Мамка, милая, сон я дивный видела. Растолкуй, хорошая моя.
– Что за сон-та?
– Ой, мамка, до сих пор со страху трясусь. Гуляю я, значит, рядом с домом, а дом-то не в Москве, а в Касимове, дедов. Только будто он не деда Мусташки, а батюшкин, и живем мы там. Арбуз такой большой вижу, но грязный он. Беру его в руки – тяжелый-тяжелый, целый пуд, не меньше, а вымыть надо. Несу его к Оке, и вот уж шаг какой остался, а я не выдерживаю, роняю. Арбуз падает да разбивается. Смотрю, а внутри он гнилой. Иду в дом. А там в горнице отец с матерью моей покойницей сидит. Только мать-то не покойница, а жива-живехонька. Я ведь ее совсем не помню, а тут сразу поняла, что это она. И не удивилась вовсе. Вроде как мы все вместе тут всегда и живем. Так вот, сидят отец с матерью, а меж ними на столе блюдце большое, на блюдце окорок лежит, они им угощаются.
– Окорок-та какой? Дунгызмы 22?
– Не знаю. А какой еще? И не все равно?
– Ай-яй, бедный Асия!. Чушка во сне ест. Она вера сменил, а чушкин мяса рот не брал. И тебе, дочка, не надо – худой еда.
– Ой, Анися, опять ты свое. Я тебе про страшное рассказываю, а ты все: не ешь свинину, да не ешь свинину… Слушай дальше. Мать встает, идет ко мне и дарит мне подарок: со своей руки перстенек бирюзовый снимает да мне на палец надевает. А я все на камушек бирюзовый любуюсь, к столу подхожу, А там еще блюдце с вишней да смородиной, я беру полную горсть и в рот кладу, а ягоды как брызнут – всю одежду мне соком запачкали. Мать говорит: смени рубаху да летник и ноги вымой. Мы гостей, говорит, позвали, пир будет знатный. Я к Оке опять иду. Ноги все мою-мою. А потом сапожки новые примеряю, сафьяновые, красные. Мягкие-мягкие, красивые. Я все любуюсь ими. Каблучками топаю. Потом снова домой иду, сажусь в своей горнице, косу расплетаю и волосы гребнем причесываю. В чем, думаю, на пир пойду? Надену-ка я шапку, а шапка тут передо мной и лежит, жемчугом шитая.
– Эндже 23 крупный?
– Разный. По верху крупный, а потом и совсем мелкий, речной. Вдруг слышу под окном шум какой-то, гости, думаю, собираются. В окошко выглядываю: ну и гости! Монах в рясе идет, а за ним черт рогатый хромой ковыляет. А последним палач идет – топор на плече несет. Я от страха онемела, а потом как припущу бежать.
– А шайтан-та волосатый?
– Ясно, волосатый. Так вот: испугалась и бежать. Тут мост – я по нему. Черт смеется, да так, что мост трясется. Монах к себе зовет. Оглянулась – а у порога батюшка мой стоит, жалкий такой, один, смотрит невесело, головой качает. Что ж, думаю, я бегу, а его с гостями такими бросила? Но остановиться уже не могу. Шаги тяжелые за собой слышу – это палач за мной с топором гонится. Глядь, бес-то, который хохотал, и не бес вовсе: лебедем обернулся и полетел впереди меня. А тут буря разразилась, в небе молнии сверкают, гром гремит. Дождь хлещет, ветер меня с ног сбивает, а кругом все голо – спрятаться негде. Вдруг вижу – терем стоит, вроде только что не было, а тут появился. Я к нему – дверь заперта. Стучу – никто не отворяет. Вижу – окошко низко. К окошку подхожу, трогаю, а оно только притворено. Залезаю я в него и вижу: горница дивная. Стены в ней бархатом обиты алым, потолок – парчовый, золотой, пол полотном суровым устлан. Из горницы дверь ведет в сени, так я в сени выхожу, а им конца-края не видно. Бегу я по ним долго-долго. И вдруг кончаются сени – выводят в маленькую горенку. А в горенке той… Ой, не могу, до сих пор дрожь бьет. Так в горенке на столе гроб стоит черный. Подхожу ближе – гроб забитый уже. А на крышке крест, да только не наш. Тут мне уж так страшно стало, что я проснулась да тебя кликнула. Ну, мамка, теперь толкуй.
Старая Анися вздохнула, но ничего не сказала. Видно было, что она думает: то ли ищет объяснения диковинному сну, то ли подбирает нужные русские слова. Как бы то ни было, Анися вздыхала и продолжала молчать.
– Ну, мамка, ну!
– Что ну-та?
– Ну, говори, к чему сон.
– Э, Анися твой сон откуда знает? Сон и всё, думай не надо. Девка такой сон, другой сон видит – Анися сразу скажи: какой-такой сон?! Анися совсем сон не знай!
– Ах, что-то ты, мамушка, темно говоришь. Толкуй-ка быстро. Да всю правду сказывай, – настаивала Василиса.
– Вот пристал: толкуй-молкуй! А что Анися знает? Анися совсем ничего не знает, – отнекивалась старуха, которой так не понравился василисин сон, что она не только толковать его значение девице, но и думать о нем не хотела.
Василиса помолчала, потом робко спросила:
– Что, совсем плохой сон?
– Зачем плохой… Простой сон. Ладно, такой девка настырный – что поняла, все скажу. Арбуз кушай хочешь… Арбуз – свадьба это. Разбил арбуз – свадьба кончай, не будет свадьба.
– Какая свадьба? Меня Бог миловал, пока никто не посватал, – прервала мамку Василиса.
– Эй, Силися, кто просил: толкуй, Анися! Толкуй давай! Теперя я говори – ты слушай не хочешь!
Анися замолчала и, похоже, рассердилась.
– Ладно, ладно, я больше не буду встревать. Говори дальше.
– Арбуз ломал – свадьба расстроила… Дальше, ты Асия видел, мать-покойница. Это бо-о-ольшой перемена будет. Вся жизнь меняй, другой начинай. Так-то!
– К переменам, ясно… Анися, а то, что арбуз грязный был да гнилой внутри, это как? – спросила девушка.
– Черек-пычрак 24 не знаю, зачем зря говори? Анися не знай – врать не буду. Так… Чушка-окорок блюдо лежал. Чушка – тьфу на него, знай не хочу. Но ничего хорошего от свиного мяса ждать не надо. Блюдо-та большой, на двоих?
– Да как обычно, на двоих.
– Худо. Дома ругань будет. Я с тобой и то сё-ремя ругай, сон смотри не надо. Ох, батька ругать будешь: батька тебе говори, ты своё говори – худо дело. Потом что? Перстень фирязяме 25?. Фирязя – это кого кётмэгяндэ 26 встречай. Другой блюдо какой джиляк 27?
– Вишня и смородина.
– Оба ягода любовный. Карлыган 28 – чистый, верный. Чия 29 – запретный. Как одно блюдо попали!? Одежду замарай… Это совсем яман 30… Хурлык – позор значит. Ну, может, люди плохое скажут. Люди – знаешь какой!.. – Анися на некоторое время замолчала. Василиса смотрела на нее со страхом.
– Эх, девка! Анися что говорил: плюнь такой сон, другой смотри. Ладно, хотел – слушай. Пир зовут – это опять яман, совсем худо. Это значит, умрет кто, хоронить будут. Так-то. – Василиса готова была разрыдаться. Анися продолжила чуть более оптимистично: – Эй, зачем боишься? Это дальний человек умрет. Если близкий умирать будет – он сам на пир приходи должен. А к тебе там кто приходил: всякий шайтан-майтан… Потом ты ноги югансын 31, сапоги кигянсен 32. Это все – дорога. Дальше, ты волосы чесал – это вся жизнь ломай, новый начинай, вся-вся жизнь меняй. Всё-всё новый будет.
Дальше – шапка. Это далеко-далеко поедешь, Анися совсем забудешь. Видишь: и одно так, и другое так. Всё бертигез 33, всё одно получается. Жемчуг – плакать будешь. Дорога собираешься и плачешь. Крупный жемчуг – большой слеза. А потом мало плакать будешь. Гости приехал, так? Монах – это Марья-ключница спроси. Татары монахов нету. Шайтан рогатый-волосатый – сильно дурной человек встретишь. Тебе алдар 34: язык – мед, сердце – лед. Однако потом птица стал. Лебедь? Гусь?
– Лебедь, мамушка, – ни жива, ни мертва еле выдохнула Василиса.
– Ну, лебедь – ладно; не так худой.
– Чего тут не понять? А палач?
– Палач, – продолжала старуха, – каяться будешь, себя казни. Кюпярдэ ёгергянсен 35 – опять дорога; палач сзади – ты бежишь, каешься. Буря, она к буре и снится. Дверь йортка 36 закрыт – где-где плохо тебя встретят. Окно открыто – большой тоска будет. Так вот. Все? – Старуха на некоторое время замолкла. – Э, нет: бархат еще, парча, полотно – это опять дорога.
– Да у тебя все к дороге! – прервала старухин рассказ Василиса.
– Нет, Силися, я такой сон не смотрел. Ты смотрел – это у тебя все к дороге. Анися старый, моя один дорога остался, сама знаешь куда. Что еще? Табутмы 37? Ну, гроб – ясно дело, свадьба.
– И арбуз, и гроб к свадьбе? – удивилась девушка.
– Арбуз-та, табут-та, кольцо-та, рука обруч-та, много-много – все свадьба…
– Так свадьба-то будет или разладится? – не унималась Василиса.
Анися пожала плечами:
– Считай будет, считай не будет. А то – одна соберет, потом не будет, а после другой свадьба будет. Так что ли? – спросила Анися сама себя. – Кто его знает? Ты, Силися, башка не бери. Мало что старый Анися говори. Ты молодой – живи, радуй. А сон что? Вчера устал – вот всякий артык-портык 38 смотрел. А может, ты заболел?. Давай тебе травка сварю. А ты, милая, думать не надо, – запричитала старуха, пытаясь успокоить Василису, хотя видно было, что и сама она встревожена эдаким многообещающим сном.
Василису же мамкин рассказ испугал лишь поначалу. Обещания перемен, дальней дороги, любви да каких-то разладившихся или неразладившихся свадеб скорее будоражили и волновали ее. Тем более что и черт обернулся лебедем.
– Послушай, Анися, а крест на гробе не наш. Это что?
– Наш-ненаш… – заворчала Анися. – А какой крест наш? Мне крест нужда нету, а ты – девка крещеный, тебе крест не вредно. Я крест не знай, не понимай… – считая тему гадания исчерпанной, Анися поднялась и сказала совсем о другом: – Давай полежи пока, я целебный травка заварю.
Старуха вышла из горницы. Василиса и впрямь решила не вставать, а понежиться на перине, делать все равно было нечего. Вот кабы она сейчас была в Касимове у деда, куда отец часто возил ее погостить! Там дел много: летом в Оке покупаться, зимой на салазках… Но независимо от времени года любимым касимовским занятием Василисы били скачки. В Москве ни одна девица на лошадь не садилась. И хоть хорошей наездницей была Василиса, в Москве ей верхом ездить не дозволялось, чтоб отца не позорить. Можно б в санях прокатиться, но, проснувшись утром, она слышала, как новый возник Афанасий сани запрягал, чтоб отца куда-то везти. Знать, и на санях сегодня не покатаешься. Пришла Анися, принесла свои отвары в кружке. Василисе их пить не хотелось, очень уж горькие они были:
– Уноси-ка их обратно. Давеча батюшка в церкви сказывал, что травами лечиться – это колдовство. Я уж лучше богоявленской водицы выпью.
Анися поворчала по-татарски, поругалась, но ушла. Скоро опять вернулась, сказала, что прислали человека от купца Глотова. Нынче вечером дочь его собирает подруг на посиделки.
– Вот удержу им нет: ну, на святках каждый день собирались, а нынче опять? Скажи, что я хвораю. Что мне на этих посиделках делать? Там девки только леденцы сосут да пряники грызут. И разговоры такие глупые. Точно, скажи, что я больная.
Анися вздохнула, ей не нравилось, что у Силиси нет подруг. У Асии их в Москве тоже не было, но она – другое дело, мужняя жена была, да и по-русски плохо знала. А этой бы парнем родиться, девичьих забав не любит. Спорить с Василисой она, впрочем, не стала – знала, что пользы не будет, а потому пошла говорить глотовскому человеку, что молодая хозяйка больная лежит. Не по душе все это было старой мамке. “Так вот засидится в девках, уже, можно сказать, засиделась – мать ее Асия в этом возрасте два года как замужем была. А тут и женихов пока не видно. А кто к ней посватается, когда она смеется над всеми: этот умом не вышел, тот драчлив, тот соплив. Не угодишь ей. Да, язык острый, не приведи Аллах, но все остальное… И куда только люди смотрят – красота какая даром пропадает! Высокая стройная, не то, что другие толстухи, коса почти до колен черная, а глаза – ну, точно как у Хасины: темные, раскосые, красивые, одним словом наши, татарские.” Настроение у Аниси, испорченное Василисиным сном, стало еще хуже.
Глава 15. Мой товар – твой купец
Было еще довольно рано, когда в дверь дома купца Карпа Сутулова, что на Малой Дмитровке, постучали. Хозяин никого не ждал и, услышав стук, крикнул слуге:
– Эй, Ефим, ты когда ворота вовремя запирать станешь? Иди посмотри, кто там.
Ефим, нахмурив брови, подошел к двери, но открывать не стал, а хриплым, низким голосом спросил:
– Кого Бог принес?
– Открывай, там увидишь, – раздался из-за двери уверенный голос. Это явно был не нищий, а для воров время не подходящее, да те и не стучатся. Ефим отворил дверь. На пороге стоял высокий статный мужчина на вид лет под пятьдесят с короткой рыжей бородой. По одежде не было ясно, кто этот гость: боярин, не боярин, а для купца одет, пожалуй, слишком богато: на плече распахнутая лисья шуба, из под нее виден кафтан с серебряным шитьем, на ногах охряного цвета сапоги, тоже расшитые серебром. Ефим его сразу узнал, но для порядку спросил:
– Как хозяину сказывать, кто пришел?
– А и сказывать нечего, сам скажусь. Карп! – зычным голосом властно позвал гость. На зов вышел хозяин.
– Савва Никитич! Вот уж радость так радость. Какой ветер тебя занес? – Карп Сутулов удивился, что Савва вдруг решил сам пожаловать, раньше-то он обычно приглашал Сутулова к себе.
– Врать, что мимо проезжал, да решил зайти, не стану. Коль пришел, значит, дело есть. Жена-то дома? – спросил Кулешов.
– А где ж ей быть?
– А Прохор-сынок?
– И Прохор дома, – Карп взволновался, – неужто натворил чего?
– Скажи ему пусть пойдет погуляет.
Последняя фраза заставила хозяина насторожиться: “Не может быть… А вдруг?..”
– Жене скажи, чтоб на стол собрала. То, зачем я пришел, в сенях не обсуждают, – веско добавил Савва.
Карп засуетился:
– Что ж это я? Проходи Савва Никитич. Татьяна! – крикнул он жене. – Собери на стол, да побыстрей. К нам дорогой гость пришел, Савва Никитич Кулешов!
Сутулов уже почти не сомневался в цели прихода Кулешова: “Господи, Господи, неужели? А если не то, зачем бы Прошку отсылать да про стол говорить, не выпить же он сюда зашел.”
Татьяна, жена Карпа, дородная, все еще красивая женщина, засуетилась, услышав, что к ним пришел такой гость. Она не готовилась встречать гостей, но вчера было Крещение Господне, так что в доме кое-что осталось, да по правде говоря, кладовые сутуловского дома не пустовали и без всяких праздников. Татьяна загремела ключами, крикнула Ефима и стала нагружать его окороками, балыками, копченой рыбой, судками со студнем, плошками с икрой. “Хорошо, что пирогов сегодня к обеду напекла, не поленилась, – думала взволнованная Татьяна, – И что это Савва к нам пожаловал?” Хозяйка кинулась в горницу накрывать стол скатертью да расставлять торелы. Татьяна все просила мужа купить для дома посуду из польского серебра, но Карп отвечал: “Повременим, настоящую серебряную купим”, поэтому блюда и торелы были пока оловянные. Положила она на стол и двузубые вилки, хозяйкину гордость, – вилки не то что в купеческом, не во всяком боярском доме были. Карп их, правда не любил, говорил, что есть ими неудобно, да и вкус у мяса становится не тот, когда его железом проткнешь. Ну да ничего, ради гостя стерпит. Из напитков Татьяна подала в малых ведрах квас, пиво и мед вареный. В кувшины налила двойного вина. В доме еще было заморское вино, ренское – Карпу гость ганзейский подарил, но дома его не пили, хозяин считал, что это не вино, а девичья забава; хозяйка, надо сказать, была с ним в этом согласна, но тут решила его поставить – бутыли были темные, красивые, горла залиты сургучом. “Выпьют, не выпьют – их дело, а я поставлю”, – подумала она.
Когда все было накрыто, Татьяна пошла звать гостя и мужа.
– Проходите, гость дорогой, Савва Никитич, отведайте чего Бог послал, – сказала она, низко кланяясь. Кулешов, увидев красоту хозяйки, как-то сразу приосанился, пригладил бороду и усы. Прошли в горницу. У порога стоял Ефим с подносом, на котором были два кубка. Когда Карп с гостем уселись, хозяйка взяла у Ефима кубки и поднесла мужчинам. Первым взял Кулешов.
– Мир да покой вашему дому, – произнес он кратко и выпил.
Татьяна поклонилась и вышла. Ефим вопросительно посмотрел на хозяина.
– Ты пока иди, – Сказал ему Карп, – надо чего будет – позову.
Слуга ушел.
– Карп Силыч, – Обратился Кулешов к Сутулову, – что-то рожа у твоего Ефима больно разбойная. Где ты его подобрал? Чай, из беглых?
– А кто ж его знает? Нам, купцам, слуг выбирать не приходится. Это бояре в вотчинах людей берут, а мы кого найдем, тому и рады.
– Ты поглядывай за ним, не ровен час чего скрадет, а то и того хуже. Вон глаза какие… Из каких он будет? – спросил Савва.
– Да русский, – добродушно ответил Карп.
– Русский-то русский, да глаз узкий, – усмехнулся в усы Савва Никитич – хотя не мне об этом говорить. Слышал, наверно, у меня жена татарка была, царство ей небесное. Крестилась, правда, все чин чином. Но ты все-таки за своим гляди… Я с улицы слуг не беру. Тут по случаю у боярыни Федосьи Морозовой двоих купил. Хорошие оказались, набожные. Да и какие у нее еще могут быть?
Услышав имя опальной боярыни Карп вздрогнул – давно он не слышал, чтобы кто-то открыто Морозову хвалил.
– Так вот Карп Силыч, понял ты, наверное, что я тебя не учить пришел, как слуг набирать, – продолжал Кулешов, – а как я есть человек прямой, то прямо и скажу, как это говорить-то принято: мой товар – твой купец. Так что ли?
Сутулов едва не подпрыгнул от радости. Догадки оказались правильными: Савва предлагает свою единственную дочь в жены старшему сутуловскому сыну Прохору. Карп Силыч знал, что Савва давно овдовел и больше не женился. Один растил дочь, и наследников его богатства, кроме этой дочери, не было никого.
А богатство было немалым! Кулешов почитался первым купцом в Москве. Его белокаменным палатам на Пречистенке завидовали не только купцы, но и бояре, да князья. Дела он сначала вел на Волге и Каспии, торговал рыбой, икрой, башкирскими лисами да медом, в Астрахани вел дела с персиянами и бухарцами, привозил оттуда шелка, парчу, пряности. У купцов, что торговали на Волге, сейчас трудные времена – вор Стенька который уж год разбой чинит, купцов грабит.
Поняв, что на Волге вести нынче дела небезопасно, Кулешов без раздумий часть своих средств перебросил на север, начал с немцами торговать: и с голландскими, и с датскими. Вот теперь с его людьми там и сутуловский Неждан Михайлов.
– Савва Никитич, – начал торжественно Карп, уже пришедший немного в себя от неожиданной чести, – знаю тебя как человека честного и разумного. Раз ты решил, что Прохор мой дочери твоей чета подходящая, то что ж я могу сказать: о лучшем я и помыслить не мог.
– Ну, а раз так, то и тянуть нечего. Василисе моей осьмнадцатый годок пошел. Самое время замуж. Как там положено? Отправляй смотрительницу, а коль она изъянов в невесте не найдет, то засылай сватов поскорей. Свадьбу, думаю, сразу после Пасхи сыграем. За приданым дело, сам понимаешь, не станет, для дочки единственной ничего не пожалею. Ну, а уж после меня она все получит – больше оставлять некому. Дом я им новый куплю. В Белом городе не обещаю, сам знаешь – купцы там наперечет, но в Земляном – найдем подходящий. Как им без дома? К снохе жить ты сам сына не пустишь, а у вас тут хоромы – не разгуляешься. Сколько у тебя кроме Прохора детей?
– Трое еще: две девчонки да сын меньшой, – ответил Карп.
– Вот видишь, трое. Куда еще Василису селить? Нет, я им дом куплю… Ну что, давай еще по чарке за наш договор, – предложил Кулешов, – да жену кличь. Экая она у тебя красавица, даром, что стольких родила, посмотришь – молодуха молодухой.
Карп улыбнулся, он гордился женой перед другими купцами: все в Москве знали, что красивей жены, чем у Сутулова, нет ни у кого.
– Татьяна! – громко крикнул Карп. – Поди к нам!
Татьяна вошла уж как-то слишком быстро, и по радостному сиянью ее глаз муж понял, что она все знает, – верно, подслушивала под дверью.
– Так вот, Татьяна Митрофановна, Савва Никитич дочь свою Василису за нашего Прохора отдает.
– Что ж, честь великая. Только б Прошка хорошим мужем ей оказался.
Карп строго посмотрен на жену – стоит ли сейчас об этом:
– Вот завтра, Татьяна, и пойдешь к Савве Никитичу, дочку посмотришь, познакомишься.
– Как скажешь.
– Значит, завтра к обеду ждать буду, – сказал Кулешов вставая.
Выходя из дома Сутуловых, Савва опять подозрительно посмотрел на Ефима и покачал головой, вспомнив Василисин рассказ. Хозяйка отвесила Кулешову поклон почти до земли, а Карп Силыч зачем-то напросился провожать.
Увидев, что отец с гостем выходят из ворот, Прохор, которого словно младенца, отправили гулять, но которому до смерти хотелось узнать, что в доме происходит, бросился к дверям.
– Матушка, почто меня выгнали? Уж не с жалобой ли пришли на меня? – волновался Прохор, знавший за собой немало грехов.
– Нет, Прохор, на сей раз не с жалобой. С честью большой к тебе пришли. Савва Никитич Кулешов тебя в зятья зовет.



