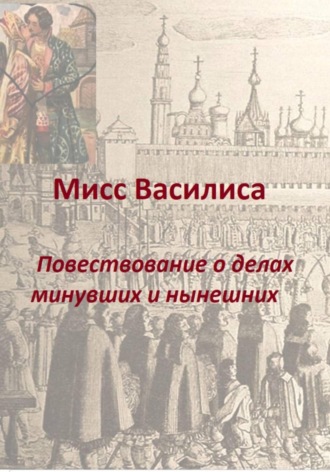
Полная версия
Мисс Василиса. Повествование о делах минувших и нынешних
– Я и сам думаю, – вздохнул Сутулов. – Да только кто придет за него дочку сватать? Все ведь вокруг знают, каков он, кому такой зять нужен? Разве что за какую-нибудь рябую или дурочку… Так ведь тоже не больно охота такую невестку получать. Парень-то он на вид статный. А что бороду бреет, да кафтан носит польский, ну так это дело молодое, глядишь, пройдет.
В этот момент в горницу забежала Дуняша.
– Тятенька, там тебя внизу кто-то кличет.
Сутулов подошел к оконцу и увидел, что у крыльца стоит Михей, приказчик богатого купца, именитого гостя Саввы Кулешова, с которым последнее время Сутулов вел дела.
Внизу в окно высунулся Неждан:
– Где Сам-то? – кричал Михей.
– Так пообедали, почивает, должно, – ответил Неждан.
– Что-й-то вы рано!
– Сам ты рано!
– Ладно, тут Карп Силыч хотел с нашим хозяином потолковать, так пускай к вечеру заходит. Передашь?
– Передам! – ответил Неждан снизу.
Было слышно, как захлопнулась дверь.
– Да, что-то я уморился, – Карп Силыч зевнул. – Пойду-ка сосну.
Постепенно Москва погрузилась в послеобеденный отдых. Поспать в полдень после сытного обеда любил тут и бедный, и богатый. Закрылись почти все лавки, а сами лавочники и их помощники-мальчишки ввиду теплого дня улеглись тут же перед лавками. Народу на улицах стало мало, а если кто не успел прийти по делу к вельможе или купцу, то приходилось отложить это на более поздний час.
Однако Карпу Силычу не спалось, все не шел у него из головы отбившийся от рук старший сын. Надо же до чего дошел – не явился к обеду, это уж не просто отсутствие вежества, а прямо-таки обида родительскому дому. “Да”, думал Сутулов, “Вот Савва Матвеев плачется, что сына у него нет, только дочка, так может, оно и лучше. Чем такого иметь, как мой Прошка. С дочкой-то зато какие могут быть тревоги. Спит себе спокойно…”
И не знал того Карп Силыч, что в эту самую минуту знатный гость, богатейший купец московский Савва Кулешов не только не спал, но даже и не прилег, хотя также недавно отобедал. Пуще того, серчал и был готов прибить как следует старую няньку татарку Анисю, которую в Москве звали на русский лад Анисьей.
– Где Василиса, слышь аль нет? – бушевал Кулешов.
– Дома был, весь день дома был, – отвечала Анися.
– А теперь где? – не унимался Кулешов.
– Сейчас прибежит. Так не серчай, батюшка мой.
Савва Никитич махнул рукой и опустился на скамью. Он ведь и не серчал. Просто страшно за девку. Москва – город большой. Может и обидеть кто. А она привыкла к свободной жизни в Касимове, и никак ей не объяснишь, что приличная-то девушка у себя в светелке сидит, да бисером вышивает, а на улицу за ворота и носа не кажет. Это пусть дочки посадских мастеровых, да крестьян по улицам слоняются. А она хоть и не боярская, а все же дочь видного купца…
Кулешов не раз повторял все это и самой Василисе, та выслушивала, и отвечала: “Так скучно сидеть-то, батюшка. Тоска одна”.
Савва Никитич и сам понимал, что, наверно, тоска. Его бы так посадили, он бы, наверное, умом тронулся. Так то он, мужчина. Живут же боярские, да царские дочери так что их почти никто и не видит, разве что в церкви.
Попробовал Кулешов дочку развлекать – приходили к ней соседки, приезжали дочки купеческие, затевали девичьи игры, веселье устраивали. Опять Василиса недовольна – глупые, мол, те девки, поговорить с ними не о чем. У них на уме наряды да женихи. Только и разговоров, кто к кому сватается.
Но то было раньше, в последнее время дочь вроде как-то успокоилась, остепенилась, Савва Никитич уже решил было, что стала его ненаглядная Василисушка такой, как и все другие девушки. Сидит в светелке, вышивает, слушает мамушкины сказки, а то молится, или в окошко на улицу смотрит. Только вот с другими купеческими дочерьми все равно водиться не хочет. “Они, батюшка, меня белиться и румяниться заставляют, а мне неохота”, вот и весь сказ.
“А, может, переживает, что такая перед ними невидная”, думал иной раз Кулешов, глядя на дочку.
И правда, Василиса была худа и высока, в то время как женская (да и мужская) красота предполагала дородство. Мужчины даже подпоясывали рубахи пониже, чтобы обозначился живот. А уж женщина должны быть и бела, и кругла, и выступать лебедушкой. У них с Асей уродилась порывистая, скуластая смуглянка. Другая на ее месте белилась бы день-деньской, а эта и по солнцу летом ходит – не боится, что загар пристанет.
И все же любил Савва Никитич дочку без памяти. Единственная она осталась от покойной жены. Хоть та при крещении получила имя Евпраксия, он продолжал звать ее по-татарски Асия или просто Ася.
Как мать, бывает, больше любит увечное или хворое дитя, так и Кулешов особенно любил свою непослушную дочку. И надо сказать, в глубине души вовсе не считал ее такой уж некрасивой. Недаром он сам когда-то женился на молодой татарке из Касимова – тонкая, гибкая станом Асия и на лошади скакала, так что не каждый парень мог за ней угнаться, и из лука стреляла, как не всякий стрелец. И то что ее лицо было тронуто загаром, вовсе не казалось отталкивающим.
И теперь, смотря на дочь, Савва Никитич вспоминал мать. А что бы та сказала, если бы ее с молодых лет посадили вышивать в светелке?
Но ведь это же Москва, а не Касимов. И ее отец сам Савва Кулешов, имеющий царскую грамоту, а не какой-то касимовский татарин. А легче ли от этого? “Ох-ох-ох, грехи наши тяжкие”, вздохнул Савва Никитич.
“Замуж ей пора, вот что”, подумал он. “Будет муж, хозяйство, детки пойдут, тут уж не до скуки. Да, надо об этом подумать”.
Внизу послышался стук копыт. Кулешов подбежал к окну – никто из знавших его как степенного рассудительного человека не мог бы даже подозревать в нем такого проворства. Внизу на крыльце показалась Анися, которая также, видно, поджидала свою воспитанницу. Однако это был всего лишь Карп Сутулов, которого Савва Никитич действительно пригласил – Карп хотел потолковать о делах – да во всей этой суете совершенно забыл об этом.
Однако гостя надо принимать, и Кулешов, приняв свое обычное степенство, неторопливо сошел вниз.
Анися провела гостя в горницу, мужчины сели за стол и стали говорить о торговле, о тех выгодах, какие можно получить в Архангельске. Сутулов, не имевший своих кораблей, хотел пристроить для первого раза Неждана на одну из кулешовских ладей, обещая со своей стороны помощь. Тот был согласен, но для видимости обещал подумать.
Перешли к другим заботам. Карп Силыч стал жаловаться на сына.
– Да брось ты, – махнул рукой Савва Никитич, – Себя вспомни, Карп. Ты ведь и сам знатно гуливал, пока своим хозяйством не зажил. Вот и Прошка твой женится, так и возьмется за ум.
На дворе тем временем опять послышался топот, Кулешов, продолжая толковать с Сутуловым, прислушался. Показалось, будто скрипнула дверь в конюшне. “Слава Богу, вернулась”, подумал Савва Никитич, и у него отлегло от сердца. “Ну, сейчас Сутулов уйдет, достанется тебе на орехи”, он собирался гневаться, но гнев не шел.
Анися подала меду, поставила пироги. Гость попробовал угощение, похвалил, да скоро стал откланиваться. Кулешов его не задерживал.
***
Когда Сутулов уехал, Савва Никитич встал посреди горницы и, насупив брови, придал своему лицу суровое выражение.
– Анисья! – крикнул он, – А ну, поди сюда!
Анися мигом вбежала в горницу, как будто стояла за дверью.
– Так где же дщерь моя, отвечай, а то хуже будет!
– Тута она, батька, не гневай! – воскликнула Анися.
– Тут? – Савва Никитич изобразил крайнее изумление, – Ты же сказывала, что не можешь ее доискаться! Как так?!
– Вот, нашел Силися. – Анися развела руками, – Сундук засыпай, задний чуланчик. Анися весь дом ходи-кричи – не слышит. Девка-немочь, батька.
– Немочь, говоришь, девичья, – Савва Никитич тяжело опустился на лавку, – Зови сюда. Посмотрим, что за такая девичья немочь у нее приключилась.
Василиса вбежала в горницу и бросилась в ноги отцу.
– Не серчай, батюшка мой!
– Буду серчать! – сказал Кулешов грозно, хотя было видно, что эта грозность наигранная. – Буду серчать, – повторил он, – коли не скажешь, где была, что делала. Как на духу!
– Хорошо, батюшка, – Василиса встала посреди горницы, опустила руки, – Все скажу. Скучно мне, батюшка, тошно тут, в Москве. Хоть и палаты здесь каменные, хоть наряды разные, хоть угощение любое, даже сахар-леденец заморский, все одно, не могу я в светлице день-деньской сидеть. И выйти на улицу не могу – народ начинает смотреть, мол, дочка гостя богатого, а по улице идет. И почто я богатой родилась…
– А ты хотела бы дочерью нищего быть? Или такого мастерового-горемыки, когда неизвестно, будет завтра в доме хлеб или нет. Так что ли? – спросил отец. – А на что тогда мне все это богатство, если оно тебе не надобно? Я же ради тебя, ради внуков стараюсь. Да не об том речь. Сказывай дальше.
– Ну вот, батюшка, – Василиса вздохнула и продолжала: – Вчерась что-то мне совсем тошно стало. Дай, думаю, по улице проеду, выеду за городские стены. Ну а чтобы на меня не глазели, велела я нянюшке купить самый простой костюм: штаны плисовые, легкий зипун, да мурмолку, ну и поршни на ноги.
– Парнем оделась, Господи помилуй, грех-то какой, – Савва Никитич даже перекрестился.
– А как же ряженые на святках? – нашлась Василиса, – Мальчишки да девчонки деревенские не то что бабами и мужиками, козами, петухами, коровами, а то и еще невесть кем наряжаются
– Уж коли как на святках, тогда чего ж сором из морковины не привязала? – рявкнул Кулешов, но увидев, что девка зарделась, сказал: – Ладно, сказывай, что дальше было?
– А дальше села я на коня, выехала за город. Смотрю, посадские девки с кузовками по грибы идут… И так мне завидно стало…
– Вот чудной, такой ангыра 12 девка, – послышался голос Аниси, – Зачем завидует? Другой бы девка радовал, ходи ненадо, ноги топчи ненадо, грибы-ягоды тебе домой приносят…
– Так ведь как хорошо в лесу! – воскликнула Василиса, – С тех пор как сюда из Касимова вернулась от деда да бабы, я еще ни разу по лесу не прошлась.
– Значит, по лесу гуляла, – покачал головой Савва Никитич, – А про то не подумала, что лихие люди могли тебе встретиться. Ведь не только ограбили бы, убили! Сейчас, как вор Стенька появился, осмелели все.
– Нет, батюшка, в лесу никаких лихих людей я не видывала, а вот здесь уже в Москве заприметила двоих.
– Где же?
– Да тут у нас. Прямо у ворот.
– У наших ворот? Лихие люди? Да как это возможно? – Кулешов даже рукой махнул. – Может, просто убогие какие подаяния просили?
– Нет, батюшка. То были не убогие.
***
Возвращаясь домой, Василиса пустила коня шагом. Народу на улицах было немало, и никто не обращал внимания на парнишку, одетого опрятно, но скромно, который направлялся к дому купца Кулешова. Купцов, ясное дело, посещают разные люди, на то они и купцы. Ворота были открыты, и Василиса увидела, что перед ними стоит незнакомый мужик и глазеет на прохожих. Она хотела было свернуть в ворота, но его лицо ей не больно понравилось. Он взглянул на нее, как будто пробуравил своими бесцветными глазами, но тут же перевел взгляд на кого-то другого.
Василиса свернула в проулок. Здесь была калитка, через которую также можно было попасть во двор. Никто не увидит, да и до конюшни ближе. Еще в переулочке девушка спешилась, и вела коня в поводу.
Войдя во двор усадьбы, Василиса увидела чужую повозку. Значит, тот мужик в воротах чей-то конюх. Она поежилась, не хотела бы она, чтобы такой работник был у ее батюшки – как посмотрит, так вздрогнешь. Но сейчас ей было не до чужого конюха. Батюшкина лошадь стояла в деннике, значит, Савва Никитич уже вернулся. Опоздала! Сердце сжалось от страха. Вот всыпет ей отец. Эх, не надо было уезжать так далеко.
Не зная, как быть, Василиса переминалась с ноги на ногу за дверью конюшни. Хоть бы гости уехали, а то как бы не столкнуться с ними лицом к лицу. Позору тогда не оберешься!
Она прислушалась. В усадьбе было тихо. Хоть бы Марья прошла по двору на погребицу. Василиса подождала еще немного и собиралась уже бежать к крошечному оконцу в боковой стене, и условным стуком сообщить Анисе, что она вернулась, как вдруг услышала негромкий разговор.
На миг Василисе стало так страшно, что она чуть было не закричала, но в последний момент сдержалась и для верности даже прикрыла рот рукой. Говорили у них во дворе – судя по голосам, два мужика.
– Ну, брат, насилу тебя нашел, – сказал один.
– Да я к месту пристроился, – ответил другой, – Теперь ищи-свищи ветра в поле.
– Хорошо, – снова сказал первый. – Где искать тебя?
– На Дмитровке, дом купца Сутулова.
– Запомню. Ну, ожидай.
– Якши. Сова ухнет три раза.
– Без кайчан очрашырбыз? 13
– Я иртэге, я берсекёнгя кил.14
И только когда разговор был закончен, Василиса вдруг поняла, что говорили-то вовсе не по-русски, а по-татарски! Поскольку сама она знала оба языка с детства, а татарский, пожалуй, услышала раньше русского, ведь мать, склонившись на дочкой, называла ее гюзэлем и джаным 15.
Послышался шорох. Залилась лаем собака, привязанная к крыльцу. На Москве царским указом собак было велено привязывать, а не спускать, потому как много бывало укушенных случайных прохожих 16. Пес Кулешовых Ушан тоже был довольно съедистый, хотя своих хозяев любил, и с остервенением вилял хвостом, когда кто-то из них выходил из дома. Из всего хозяйства Ушан не дружил только с Мурыской, да то потому, что она была кошка.
Василиса снова спряталась в темный денник, затем осторожно выглянула. Во дворе было тихо, однако Ушан продолжал недовольно ворчать, чуя чужого. В этот момент в доме раздались голоса, и на высоком крыльце появился гость, в котором Василиса узнала виденного однажды мельком купца Сутулова. Его провожал отец:
– Ну, значит, по рукам, Савва Никитич, – говорил Сутулов, который казался довольным.
– Сам знаешь, Карп Силыч, Кулешовское слово – кремень, – отвечал отец.
Он говорил как всегда веско, но Василиса слишком хорошо знала отца, чтобы не заметить, что он чем-то обеспокоен.
“Неужто хватился меня!” мелькнула ужасная мысль, “Что будет-то…”
Кулешов проводил гостя до низу. Василиса прижалась глазом к щели между дверью и косяком, стараясь разглядеть работника купца Сутулова. И на миг это удалось. Тот самый мужик, что разглядывал прохожих у ворот! Значит, он и переговаривался с кем-то. Разбойник, ясное дело.
И вот теперь Василиса подробно рассказала отцу о том, что видела и слышала.
– Ну, чужой работник не наше дело, – наставительно сказал отец, – А что до тебя, выпорол бы я… В общем так, еще раз подобное приключится, выпорю, не пожалею. – Он поднялся с лавки. – Замуж тебе пора, Василисушка. Дурь-то сама и выйдет.
– Да рано мне замуж-то… – дрогнувшим голосом взмолилась Василиса.
– А по-моему – так в самый раз. И смотри, больше за ворота – ни шагу. – Савва Никитич чувствовал, что должен проявить суровость, – Я всех предупрежу, и Афанасия, и Михея, и Марью. Если что за тобой замечу, в доме запру. На замок! Слышишь меня? Окна заколочу, чтоб в окно не вылезла! Гляди у меня, девка! Все, хватит, давал я тебе волю, а ты вон как ею воспользовалась. И ты, – он повернулся к Анисе, – будешь девке потакать, обратно в Касимов отправлю, тот же час! Поняли аль нет?
Василиса испугалась.
– Вот коли еще раз сбежишь, назавтра же Анисью и отправлю, – сказал Савва Никитич, довольный тем, что нашлось, чем пригрозить. – Давай-ка сюда свою одежку, пусть у меня лежит. Хотел я сжечь ее, да может, твоему сынку пригодится.
– Хорошо, батюшка, я поняла, – опустила глаза Василиса и с подчеркнутой покорностью спросила: – Изволишь ли отпустить меня к себе в светлицу?
– Ступай, – проворчал Савва Никитич.
Дочь ушла, Анися принесла мужской костюм Василисы и подала его хозяину.
– И ты ступай, – только и сказал Кулешов, а когда старая мамка поспешно удалилась, сел и крепко задумался. Что делать с дочкой… Не так легко ее замуж выдать. А ведь хочется мужа и богатого, и доброго, и сурьезного… Да возьмет ли такой его Василису… Конечно, она не чья-то дочка, а самого Саввы Никитича Кулешова, и всякий захочет с ним породниться. Но и это также смущало отца. Хотелось бы, чтобы выбирали невесту, а не ее богатство.
Василиса же у себя в светлице по-настоящему жалела, что родилась в богатой семье. Будь она дочерью простого купца средней руки или крепкого мастерового, она могла бы и в город выйти с нянькой, и на качелях покачаться летом, и в лес сходить по грибы, по ягоды…
Вот уж воистину, “соболино одеяльце в ногах, да потонули подушки в слезах”.
Глава 8. Из записок Торрингтона
“1 октября. Граф Оксеншерна оказался не сыном, как предполагал сэр Гентли, а внуком графа Акселя. К счастью, природа на сей раз решила не отдыхать на потомке великого человека. Граф Оксеншерна-младший оказался умнейшим и приятнейшим господином примерно моих лет. Узнав, что глава английской миссии был знаком с его дедом и почитал его одним из лучших политиков Европы, он своей властью отменил все глупые указания на наш счет, позволил пристать в Риге и первым приветствовал, в нарушение обычая, наш корабль двадцатью четырьмя выстрелами из пушек, на что сэр Гентли распорядился ответить двенадцатью. Нас устроили в генерал-губернаторском дворце, довольно простом; впрочем, самом приличном в городе.
4 октября. Отправился осматривать город и предместья. Город Рига окружен мощной системой укреплений, описать которые может разве что военный инженер. Город имеет четверо обычных и пять водных ворот. Здания некрасивые, улицы застроены без всякого порядка, дома большие и неуклюжие. Рига имеет несколько шведских и немецких церквей, а также одну леттскую. Здания церквей хороши, крыты медью. Внутри они разукрашены по католическому обычаю. Может быть, осталось от поляков? Священники носят пышные рясы, а на голове – плоские шапочки. Здесь лютеранское богослужение. Во время службы поют, и играет орган. В городе высокая пороховая башня, сильно пострадавшая в последнюю войну от русских. Ратуша – одно название. Если нужно собраться городскому совету, закрывают рынок, там и заседают. Осматривал самую большую их церковь. До чего же она похожа на католическую! Наверху перед хорами изображены Страсти Господни. Сцены искусно вырезаны из дерева и раскрашены. Распятие высоко, фигура Христа выше человеческого роста.
Отправился на окраину города. Слуга Сэм увязался за мной – боится отпускать меня одного. Строения, в которых живут люди, ужасны. Язык не поворачивается назвать их домами. Это землянки, крытые камышом, а иные – навозом и глиной. Мы с Сэмом зашли в одну: земляной пол, мокрый из-за просачивающейся воды, очаг посередине единственного жилого помещения, дым выходит в отверстие в потолке. Сэм угостил хозяев табаком, который здесь употребляют и мужчины, и женщины, что поразило даже моего видавшего виды слугу. Дети ходят босые и почти голые, хотя погоду теплой не назовешь. У взрослых на ногах обувь из древесной коры, одеты они в грубые тулупы. Впечатление все это производит удручающее. Если так обстоят дела в культурной Швеции, то что же мы увидим в дикой Московии? Позже, когда вернулись, рассказали о том, что видели. Шведы согласились, что жизнь местных людей очень тяжела, один даже спел нам песенку по-леттски, снабдив переводом:
Я лифляндский мужик,
К легкой жизни не привык.
Я работаю, как вол,
Только не обут и гол.
Рыбу всю, что я поймал,
Сразу юнкер отобрал.
Пастору вернул я долг,
Голоден теперь, как волк.
Дома вечно плачут дети…
Для чего живу на свете?
Для чего я все терплю?
Лучше в реку иль в петлю.
И припев такой жалобный: Рим-зим-зим, рим-зим-зим после каждых двух строчек.

Панорама города Риги в 1650 году. Рисунок Иоганна Христофа Бротце.
7 ноября. Из-за дождей, которые безостановочно шли почти целый месяц, дороги превратились в настоящее болото, поэтому все это время нам пришлось пользоваться гостеприимством генерал-губернатора Оксеншерны. Наконец дожди сменились холодами, и путь можно было продолжить. Генерал-губернатор устроил прощальный обед, на котором произносились тосты за здравие нашего короля Карла, их короля Карла, сэра Энтони Гентли и всех членов посольства. С ответными тостами выступали сначала сэр Гентли, потом я, а потом и остальные. Мы с графом Оксеншерной и сэром Энтони говорили на латыни, остальным пришлось прибегать к помощи переводчика. Впрочем, слышно все равно было плохо, так как в нашу честь беспрерывно палили пушки и трубили трубы. Никогда в жизни не был на таком шумном обеде. Потом пришли прощаться члены городского совета. Опять произносились тосты за здоровье нашего короля Карла, их короля Карла… Прощальный обед затянулся, так что наутро выехать не смогли.
9 ноября. Покидаем Ригу. Нас провожал граф лично и городской совет в полном составе. Улицы полны горожан. Только мы выехали за ворота, был дан залп из пушек. Едем медленно – дороги очень плохи… Земля кругом бедная, заселена редко. Иногда встречаются одинокие дома, церквей почти не видно. За день проехали миль пять, а то и менее.
13 ноября. Едем сплошь болотами, по которым для проезда уложены бревна, часто подгнившие. Из-за этого несколько наших подвод перевернулось. Остановились на ночь на постоялом дворе. Ночлег был ужасным: нам постелили нарубленную солому, будто только что отнятую у свиней. Лошадям не дали никакого корма. И это Швеция! Что-то будет в России? Замерз и устал за ночь больше, чем отдохнул. Кабы не Сэм, раздобывший невесть откуда какое-то подобие одежд из овечьих шкур, замерз бы насмерть. Утром Сэм оттирал и отпаивал меня джином. Уж не знаю, где он пополняет его запасы, но бутылка этого пойла у него всегда при себе. Кажется, и я начинаю ценить этот шотландский напиток – в некоторых случаях он незаменим.
25 ноября. Доехали до замка Нивенхойзен почти на самой границе Лифляндии с Московией. Похоже, здесь нам предстоит задержаться, так как русские, боясь чумы, перекрыли все проходы в свое государство. Неужели гнусный слух, распущенный голландцами, дошел и до них? Воевода потребовал от посла письменное свидетельство, что все мы здоровы и никто не умер по дороге, а также что в Риге нам позволялось свободно ходить по городу. Сэр Гентли немедленно таковое представил. Умнейший человек сэр Гентли! До чего же он предусмотрителен. Оказывается, он предвидел такое развитие событий и еще в Риге решил обезопаситься, испросив у главы городского совета бумагу соответствующего содержания. Тем не менее, к нам относятся подозрительно, потому что до местных русских властей дошли странные сведения, что будто бы в Риге у нас умерло человек двадцать и держали нас там в специальном чумном бараке. Псковский воевода очень осторожен, никого из наших посланцев близко не подпускает и разговаривает с нами не иначе, как через зажженный костер, а письма, приходящие от нас, велит обкуривать дымом, да и после этого в руки не берет, а ждет, пока ему прочтут другие.
28 ноября. К нам, наконец, из Пскова прислали офицера для переговоров. Приехал он без толмача, а при этом ни на одном из языков, кроме русского, не говорил. Пришлось впервые обращаться к услугам переводчика. Через несколько минут разговора выяснилось, что они не совсем понимают друг друга. Сэр Гентли выразил свое недоумение. Оказалось, что мистер Джон Блэксмит был нанят в Лондоне переводчиком за неимением другого – тот, кто ездил восемь лет назад с графом Карлейлем, уже умер. Взятый же нами почтенный господин русского языка не знал, в России никогда не бывал, зато несколько лет провел в Польше и знал язык этой страны. Там же он слышал, что русские, как и поляки принадлежат к одному большому племени славян и, значит, говорят на одном языке. Что теперь делать? К нашему счастью, комендант замка немного понимал и говорил по-русски. С его помощью удалось выяснить, что въезд в страну нам разрешен, но только после двухнедельного карантина; четыре дня, некоторые мы уже провели здесь, в него засчитывались. Офицер был любезен и сказал, что это будет лучше и для нас, так как дороги совсем замерзнут и станут твердыми, словно мощеные.
8 декабря. Мы пересекаем русскую границу. Здравствуй, Московия!”
Глава 9. Нэнси прежняя и Нэнси нынешняя
Труро оказался типичным городком Южной Англии со старинным центром, с пабами, на каждом из которых в точности указано, когда сюда заходила какая-нибудь великая или хотя бы известная личность. В отличие от пестрого интернационального Лондона эти городки до сих пор похожи на Старую Добрую Англию, несмотря на чалму сикха, служащего железной дороги, и смуглые личики двух-трех из детишек, играющих на улице.
Не зная в точности, когда заканчивается воскресная служба в соборе Труро, я приехала значительно раньше, и некоторое время бродила вокруг, затем вошла в ближайший паб, где мужчины пили гинес. Над стойкой красовалась горделивая надпись, возвещавшая, что в это самое заведение любил захаживать капитан Фрэнсис Томас Торрингтон, бывший, правой рукой адмирала Нельсона во время Трафальгарской битвы. Когда я обратилась за разъяснениями к хозяину кабачка, он долго и красочно живописал, как Торрингтон держал руку умирающего адмирала, и именно ему, Фрэнсису Томасу, тот доверил свои последние слова, обращенные к леди Гамильтон.



