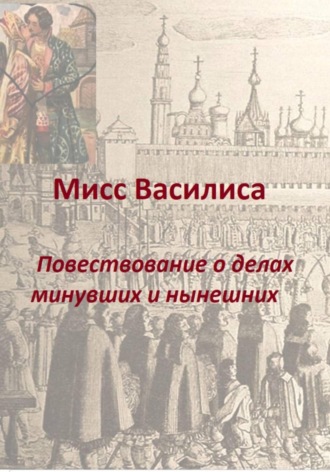
Полная версия
Мисс Василиса. Повествование о делах минувших и нынешних
– Неужели он рассказывает все время одно и то же? – недоуменно спросила я, – Ведь его доклад называется… – я раскрыла программу, – “Новые факты из истории рода Торрингтонов”.
– Да, конечно, – сардонически хмыкнул молодой человек, – Разумеется тут есть новые факты. Например, этот старый осел где-то прочитал или достал какую-нибудь древнюю хартию о том, что Джон в момент совершения своего несравненного подвига варил овсянку, в то время как раньше считалось, что он был занят чисткой котла. А через месяц он выступит с новой версией: окажется, что Джон в это время чинил конскую сбрую, или пил эль, или ковырял в носу. Причем повод вылезти на кафедру не важен. Сойдет и конкурс студенческих работ, и международная конференция, вот как сейчас.
– Да, тяжело, – я покачала головой.
– Особенно нам тут в Эксетере. Это ближайший университетский город от родового гнезда достославного семейства. А старший представитель этого знаменитого рода, к сожалению, является одним из наших главных попечителей. Так что живем мы на его денежки.
– А взамен он требует только, чтобы выслушивали о его новых изысканиях. Что ж, это небольшая плата.
– Наверно. Вот мы и тянем жребий, кто пойдет на его доклад в следующий раз.
Перерыв кончился, и все потянулись в зал. Я тоже собиралась присоединиться к коллегам, однако увидела сэра Фрэнсиса, который двигался навстречу основному потоку, с текстом доклада в руках.
Я не могла удержаться и не задать ему вопрос, который мучил меня в течение всего его доклада:
– Простите, мистер Торрингтон, я только что с большим интересом прослушала ваше сообщение и хотела задать вам несколько вопросов.
– Да, – на лице сэра Фрэнсиса появилось невероятно серьезное выражение.
– Я занималась первыми английскими поселениями в Новом Свете, и мне попалось упоминание о Томасе Торрингтоне. В 1674 году он находился в Нью-Йорке вместе с женой и сыном.
– Что?! – я даже опешила, не ожидая, что столь почтенный джентльмен способен так кричать. – Что?! – снова завопил он, и на нас стали оглядываться. – У Томаса родился сын?! Боже! Боже мой! У Томаса сын? Но он жив? – сэр Фрэнсис пронзил меня таким взглядом, что я уже была готова пожалеть, что связалась с буйно помешанным, – Вернее, что я говорю… Он не умер ребенком, были ли у него наследники?
Никогда не думала, что человека могут настолько занимать события трехсотлетней давности.
– Я, к сожалению, не могу удовлетворить вашего любопытства… – осторожно начала я.
– Какое к дьяволу любопытство! Это дело жизни и смерти! Честь Торрингтонов, черт побери!
Я не предполагала, что столь достойный джентльмен способен употреблять подобные выражения, а потому постаралась говорить как можно нейтральнее, опасаясь, как бы мои сообщения не вызвали нового взрыва.
– Мне известно только, что сын родился и был крещен в Хартфорде, а его матерью была женщина по имени Василиса.
– Ага!! – вскричал сэр Фрэнсис, – Значит, она!
– Кто она? – не выдержала я.
– Doch gostya Kooleshova, – пояснил Торрингтон.
Мне пришлось переспросить, но все равно я не сразу поняла, что сэр Фрэнсис говорит по-русски!
“Гостями” в допетровской России называли богатых купцов, нечто вроде будущей привилегированной первой гильдии. Они получали от царя персональные жалованные грамоты, имели право на собственные винокурни и так далее. Но откуда это слово известно сэру Фрэнсису С. Д. Торрингтону из Корнуэлла?
– Так Томас Торрингтон называет в своих записках одну девицу, которую увидел в Московии, – объяснил мне сэр Фрэнсис чуть позже, когда немного успокоился и вновь приобрел человеческий облик.
Мы дошли до кафе, где сейчас было пусто, потому что почти все разошлись по секциям. Я и сама надеялась услышать доклад о “достоверности советских этнодемографических публикаций”, но теперь было уже не до того. Азарт Фрэнсиса Торрингтона заразил меня, причем в довольно тяжелой форме.
Мы сели за столик, заказали кофе и сэндвичи, и Торрингтон разложил передо мной целый ворох листков, каждый из которых запечатлел фрагмент полного генеалогического древа этого славного английского рода.
Ни раньше, ни позднее мне не приходилось видеть столь скрупулезно проделанной работы. Здесь были учтены все дети, даже те, что прожили несколько часов. О супругах обоего пола сообщались всевозможные сведения, а потомки учитывались не только по мужской, но во многих случаях и по женской линии.
Уместить на одном листе бумаги эту схему было невозможно, для этого понадобилась бы трехмерная конструкция.
– Простите мне мое волнение, – сказал Торрингтон, – но вы сообщили такую новость, от которой я до сих пор еще не могу оправиться. Ведь это в корне меняет всю мою концепцию. И не только ее, – таинственно добавил он после минутной паузы. – Я не знал, что у Томаса был сын.
– Но судя по вашим словам, у вас есть его записки…
– Они охватывают только первую половину его путешествия в Московию, – покачал головой сэр Фрэнсис, – Записи становятся все короче, а потом и вовсе обрываются. Дальнейшая судьба Томаса неизвестна. Во всяком случае, с посольством Гентли он не вернулся. В то же время я как-то не мог найти точных сведений о его смерти. Я, например, не знаю, где он захоронен. Если бы он умер в море, об этом бы сообщили. Томас Торрингтон всегда меня очень волновал. Я одно время считал, что он натурализовался в России. Пару лет назад я даже делал доклад на эту тему в университете Сент-Эндрюс.
– Подумайте, как это возможно? В то время в России иностранцы жили на положении изгоев, каждый их шаг контролировался властями. Они фактически были лишены свободы передвижения. И это после Англии?
– Тем не менее купцы туда ездили – ответил Торрингтон – Однако все это не так важно в свете того, что вы мне сейчас сообщили. Он женился на русской и увез ее в Новую Англию. Мать его, леди Маргарет, к этому времени скончалась… И все-таки остается непонятным, почему он не вернулся в Корнуэлл. В результате я стал владельцем поместья, – сэр Фрэнсис рассмеялся, затем стал тасовать листы генеалогии и скоро вытащил на свет один из них, относящийся к XVII столетию. Лист касался потомков некоего Годфри Эдварда Торрингтона, который в 1609 году женился на Джейн Эннабел Дарси и имел от нее пятерых детей. Первенец, Кристофер прожил несколько дней, второй, Сэр Мэтью Годфри, родился в 1612 году, а в 1657 был обезглавлен. Затем родилась Эмили, вышедшая замуж за Джона Гарольда Бингли и умершая в 1643 году, Констанция, так и не вышедшая замуж, и при этом прожившая 102 года и, наконец, Фрэнсис Годфри Торрингтон, родившийся в 1626 году. От него-то и вел свою линию нынешний владелец поместья. Этот “старый” сэр Фрэнсис долгое время был холостяком, а в 1675 году внезапно женился на Агнес Пентуин, которая была моложе его на двадцать два года. От этого брака в следующем 1676 году родился Годфри Фрэнсис, ставший в начале следующего века активным деятелем партии вигов и породнившийся через детей с Кавендишами, Стенхопами и Расселами.
Что касается сэра Мэтью Годфри, то у него был один-единственный сын Томас Мэтью, двое других детей умерли до года. Томас Торрингтон принадлежал к старшей ветви семьи и именно он должен был унаследовать поместье, а не Фрэнсис Годфри, который родился значительно позже и был сыном младшего брата. Однако Томас не воспользовался своим наследным правом. И совершенно непонятно – почему.
– А что он пишет в своих заметках? – спросила я.
– Обычные записки о стране глазами иностранца, – пожал плечами сэр Фрэнсис, – Возможно, это интересно для истории России. Все, что нужно было мне, я оттуда извлек. Вот, кстати, и история Джона, первого из Торрингтонов. Новые факты, о которых я рассказывал, почерпнуты именно из этих записок.
– А возможно ли взглянуть на них? – робко спросила я, зная, что многие подобные энтузиасты не жаждут показывать свои материалы, а кое-кто умудряется упрятать их даже после смерти, составив завещание таким образом, что они могут быть опубликованы, скажем, через двадцать лет.
– С радостью покажу их вам, – ответил сэр Фрэнсис, и моя все растущая симпатия к нему выросла сразу вдвое, – Вы собираетесь пробыть в Эксетере до конца конференции? Тогда я буду ждать вас в субботу в Труро у епископального собора сразу после окончания службы.
Глава 6. Дела Московские
В Московии, меж тем, послов не ждали, своих дел хватало.
Лето от сотворения мира 7177 было тяжелым для царя Алексея Михайловича. Несчастья, как нарочно, преследовали его семью. В феврале прошлого умерла его старшая дочь Евдокия, которой шел тогда девятнадцатый год. Потеря эта поразила мать ее, царицу Марью Ильинишну 9, что она родила прежде срока – дочь также нарекли Евдокией, и через несколько дней она умерла, а еще через неделю скончалась и царица. Горести на том не кончились. В июне умер четырехлетний царевич Симеон.
Следующий год был не лучше. Начался он с того, что вор Стенька Разин, нагулявшись по Дону и Каспию, пошел из Астрахани вверх по Волге, захватил Царицын, выпустил из воеводской тюрьмы всех татей и разбойников. Вся ватага отправилась зимовать на Дон.
В январе преставился наследник престола царевич Алексей, объявленный уже соправителем отца. Меньше чем за год потерял царь супругу и четверых детей.

Неизвестный русский художник второй половины 17 века. Школа Оружейной палаты. Портрет царя Алексея Михайловича. Конец 1670 – начало 1680 годов
А по весне донцы выбрали вора Стеньку атаманом донского войска, посланного к казакам московского воеводу Евдокимова разбойник утопил и опять отправился на Волгу. При этом он объявил, что в войске его находится царевич Алексей Алексеич, сбежавший от отца да бояр. Народ впал в усумнение: вдруг, и правда, жив царевич? Любит народ самозванцев, забыл, верно, Лжедмитриев, что поляков за собой в Москву привели и смуту в государстве учинили.
Бояре призывали царя быть построже с народом, но Алексей Михайлович, человек мягкий, более всего желавший согласия и спокойствия, им противился, он считал, что народ от доброты своей верит слуху, что царевич жив. Алексей Михайлович, может, и сам бы поверил, кабы не целовал холодного лба своего любимого сына.
А Стенька взбудоражил сначала низовья Волги, а летом пошел на север. Дворян и дьяков разбойник вешал или топил, грамоты жег, и повсюду рассылал своих сподручников.
Все лето донесения шли одно хуже другого. Михалко Харитонов собрал глытьбу, взял Саранск и Пензу. Мордва да черемисы примкнули к худшим людикам. Разбойники спалили Керенск. Никита Чертенок идет на Тамбов. Чуваши большой толпой с косами и дрекольем захватили Цивильск, все разграбили. Фролка Разин, брат злодея, подходит к Воронежу. Федька Шадра да Леско Григорьев двинулись с Дона на Слободскую Украину мутить тамошних казаков, а в Чугуеве и Змиеве слобожане уже учинили открытое воровство: хлебные амбары пограбили, с полковника Небиймаму живьем кожу содрали. Крестьяне крутицкого митрополита в селе Чундырь пожгли крепостные записи и, соединившись с черемисами, осадили Кокшайск. Воры объявились в Заволжье – на Унже и Ветлуге. В царских вотчинах Лыскове и Мурашкине под Нижним Новгородом бунтовщики государевых людей побили, пожгли вотчинные письма, потом приступом взяли Макарьевский Желтоводский монастырь, казну пограбили, со святых икон оклады посдирали.
И, почитай, каждый день что-нибудь такое! Уже и на Москве Стенькины прелестные письма появились.
Бояре обступили царя, говорят, не ровен час, вор и до Москвы доберется. Требуют Москву закрыть: ополчение собрать и вокруг столицы выставить, гостей да странных людей в город не пускать. А что в городе начнется, коли так поступить надумают? Не хочет царь, чтоб решили горожане: знать, силен Степан Разин, коли столько чести ему – он еще по Волге гуляет, а со страху уж Москву заперли; может, и впрямь царевич Алексей при нем, а то с чего бы боярам так вора бояться?
Нет, нельзя столицу закрывать. Но и спускать разбойнику нельзя. Князь Барятинский тут новшество задумал: войско государево собрать да на заморский манер его обучить. Денег из казны много на то ушло, вот и подумывает царь, что пора бы Барятинскому свое войско в деле показать, а то на что ж оно годно, коль с разбойниками не совладает?
Такие, вот, события выпали на царствование мягкого и доброжелательного человека.
***
А Москва жила своей кипучей жизнью. Сутолока на улицах, голоса разносчиков, колокольный звон, лай собак, крики возников, смех, ругань – все сливалось в привычный городской гул.
Однако коренной москвич его даже и не замечал. Он шел себе по своим делам. Вот по Варварке чинно идет купец Карп Сутулов, по сторонам не оглядывается, сосредоточенно думает о чем-то, то ли вспоминает что, то ли подсчитывает.
Было десять утра, и вокруг кипела торговля. Улицы вокруг Красной площади – Варварка, Ильинка, Никольская были запружены народом, пришедшим, кто купить, кто продать, а кто на людей посмотреть. Скоро потянулись торговые ряды, каждый мало-мальски свободный уголок был занят торгующими в подвижных шалашах, на скамьях, на лотках и при квасных кадках. Пирожники зычно расхваливали товар, который тут же запивался квасом, слабый сентябрьский ветерок приносил разнообразные запахи, зелени и овощей, моченых яблок и арбузов, меда, свежих холстов, однако стоило ветерку поменять направление, и все эти ароматы перекрывал ядреный запах соленой рыбы. Ее продавали и покупали много – мясо не всем было по карману, и Москва питалась рыбой. Соль, правда, была дороговата, особенно как ввели на нее особый налог, и в рыбу ее недокладывали. Оттого запах от рыбных рядов показался бы невыносимым любому свежему человеку, однако москвичи народ тертый, его рыбой с душком не испугаешь. А уж тем более коренного москвича, доброго купца Карпа Сутулова, который шел сейчас к большому Гостиному двору.
Это трехъярусное здание, сооруженное тридцать лет назад, привлекало Сутулова не амбарами, коих было там числом семьдесят четыре, и даже не лучшими икорными и свежерыбными шалашами, поставленными среди двора. Сутулов шел не праздно, а по делам.
Этот ничем особенно не примечательный крепкий мужчина среднего дородства с окладистой русой бородой, был из тех, кто не смотря ни на что шел в гору. Ему принадлежало несколько лавок, торговавших хлопчатобумажной тканью, лучшими алыми кумачами, чулками, колпаками, фитилями для ламп, а также шелками и сафьянами. Все эти товары прямо ему в амбар привозились из Уфы и Казани, где их приобретали у бухарцев.
В Уфу ездил доверенный Карпу человек, Неждан Михайлов из Богдановых. Он приходился вуйцом 10 жене Карпа Татьяне, и был достоин всяческого доверия.
Но надо было расширять дело. Карп Сутулов брал пример с именитых московских гостей, с того же Саввы Никитича из Кулешовых. Вот это купец, так купец. Молодым сам езживал и в Архангельск торговать с англичанами и голландцами, и по Волге спускался, и по Дону к Азовскому морю, где вел дела и с турками, и с фрязинами. Весь мир повидал, на всех наречиях торговаться научился. Смотря на Савву Никитича, с которым Карп Силыч водил знакомство, Сутулов ясно видел – надо не ждать, когда товар привезут тебе в Москву и сдерут с тебя втридорога, надо самому ехать, либо посылать таких людей, кому как себе доверяешь. Ох, надо кого-то в Архангельск отправлять! С тех пор, как государь Алексей Михайлович, благослови его Господи, запретил английским купцам беспошлинно хозяйничать в православных пределах, торговля с Архангельском стала делом куда как прибыльным.
Но кого послать, вот в чем вопрос!
Эта была горькая дума. Карп Сутулов даже замедлил шаг. Каждый человек печален своим, у одного сына нет, оттого плохо, у другого есть сын, да это еще хуже. Сын Прошка был постоянным расстройством для Карпа Силыча. Сколько ни приучал его отец к купеческому делу, тот ни за что не желал им овладевать. А тут ведь не просто “купи – продай”, тут учет нужен, сколько, где, чего почем. Оборотистость нужна, чтобы сразу смекнуть, что будут брать лучше; о веселой жизни забыть, потому как товар да денежки пригляд любят. “Вот если бы Прохор за ум взялся”, думал Сутулов, “послал бы я его в Архангельск…”
Скоро он дошел до Гостиного двора, где ему принадлежал один из просторных амбаров – здесь хранились товары, здесь же и раскупали его оптом и в розницу. Там разгружали подводы, привезшие с реки Москвы хлопчатобумажные ткани. Разгрузкой руководил Неждан Богданов, а мешки таскали двое – какой-то постреленок и смурной мужик постарше.
– Бог помощь, Неждан, – сказал Карп.
– Спаси Бог, Карп Силыч, – ответил Неждан.
– Вот такое дело, Неждан, – сказал Карп Силыч, – Закончишь, подойди ко мне. Потолковать с тобой надобно.
Он поднялся в амбар. Товару вокруг было много, алели кумачи, сафьяновые кожи сложены чуть не до самого потолка. “А вдруг случись что со мной?”, неожиданно подумалось Сутулову, “На кого все это оставлю? Татьяна – умная баба, да все баба. Ванюшка малой еще, остальные обе девки, а Прошка… Эх, Прошка…”. При воспоминании о непутевом сыне поправившееся было настроение, снова испортилось.
Наконец, подводу разгрузили, и в полутемное помещение, освещавшееся узкими высокими окнами, пробитыми в толстых стенах, вошел Неждан, стягивая на ходу шапку.
– Звали, Карп Силыч?
– Звал, – ответил Сутулов, – Вот что, Неждан. Ты парень ловкий и честный. Хочу тебя в Архангельск послать. Чтоб ты сам осмотрелся и сообразил, какого товару и сколько взять. Повезешь туда меха да всякую мягкую рухлядь, а там возьмешь товару аглицкого, да голландского. Сам должен смекнуть, что выгоднее. Справишься?
– Справлюсь, Карп Силыч, – кивнул головой Неждан, – Да только…
– Что еще? – спросил Сутулов, хоть и догадывался.
– Так в Уфу-то надо… Там тюки с товарами должен Абдулка доставить из Бухары.
– Да точно ли доставит-то?
– Точно. Он хоть и нехристь, басурман, а человек честный. Мы его тоже не подводили покамест.
– Да… – Карп Силыч почесал бороду. – И то…
Неждан знал, что сам Сутулов не может отлучиться из Москвы, здесь нужен был хозяйский глаз, да и года его уже не те, чтобы так разъезжать. А Прохора оставить нельзя – запустит всю торговлю, и доверить ему дело в Уфе тоже боязно.
– Карп Силыч, – сказал Неждан, – А что если к Абдулке Федюшку послать?
Федюшка был расторопным малым, который помогал Сутулову вести дела здесь, в Москве, а заодно и работу всякую делал по дому – смотрел за лошадьми, закупал продукты и другие товары, какие требовалось, чинил телеги и сани, если надобно; короче, был такой работник, каких днем с огнем не отыщешь. Карп подобрал его когда-то сиротой.
Сутулов и сам уже думал, не послать ли Федюшку, да кто ж тогда ему в подмогу дома останется? На Прохора надежи-то нет никакой.
– Может найти другого работника? – предложил Неждан.
– Где ж я его возьму? Крестьян, да дворовых нету у меня, чай я не из детей боярских.
– А вот тут какой-то мужичок у меня подводу разгружал, – Неждан махнул рукой, указывая на дверь, – За три гроша всего нанялся. Может, не ушел еще.
– А что за человек-то?
– А Бог его знает, – ответил Неждан, – Крутился тут по рынку. Я искал кого на подмогу, вот он и вызвался. Рожа, конечно, разбойничья, но он же не один, при тебе будет. Глаз за ним нужен, а так ничего, работящий.
Карп Силыч на миг задумался. Он был человек торговый, и умел соображать быстро, взвешивая все “за” и “супротив”. Федюшку отправить в Уфу, где и так все схвачено и договорено. Он встретится с Абдулкой-Бухарцем и привезет товар, а Неждан поедет узнавать новое дело в Архангельск. Хорошо. Ну, а в Москве сам останется, да в подмогу работник. Карп Силыч снова вздохнул. Жаль, Прошка никак за ум не возьмется, ни в каком работнике и нужды бы не было. “Женить его надо”, решил Сутулов, “Авось образумится тогда”.
Он посмотрел на ожидающего Неждана и сказал:
– Ну, зови этого, коли не ушел еще.
Неждан поспешил вниз и скоро вернулся вместе с мужиком, который в первый миг Карпу Силычу не понравился. Из-под густых волос, подстриженных под скобку, на него смотрели два пронзительных глаза, то ли темно-серых, то ли карих, не разберешь: варнак-варнаком. Одежа состояла из одной рубахи и портов, довольно изношенных, на ногах, впрочем, были почти новые сапоги. Шапку мужик держал в руках, а войдя в помещение, поклонился хозяину. Это Сутулову понравилось.
– Ну, – сказал он, – Как тебя звать?
– Ефимкой, – ответил мужик хрипло.
– Нужен мне работник, – продолжал Сутулов, – За лошадьми смотреть, если надо, телегу поправить, в лавке помочь. Мне тут Неждан сказывал, что ты подводу помогал разгружать, говорит, ты силен и расторопен.
– Ну а за службу чего? – недоверчиво спросил Ефим.
– Во-первых, стол, что сами едим, то и ты есть будешь. В мясоед мясо, в пост постное. Во-вторых, одежа. Рубаха, порты, онучи, само собой, полушубок, треух, рукавицы. Ну а там, как дело пойдет. Хорошо будешь служить, алтынный в месяц будешь иметь.
Ефим склонил голову, будто к чему прислушивался, а затем кивнул.
– Ну, по рукам что ли, Ефимка? – спросил Сутулов.
– По рукам, – кивнул мужик, – Как тебя, батюшка, звать-величать-то?
– А ты будто не знаешь?
– Может, и знаю, а все одно хочу, что б ты сам мне себя представил.
– Ладно, – усмехнулся Карп Силыч, которого позабавил такой ответ, – Зовут меня Карп, отец мой был Сила Сутулый 11, известный в Москве сбитенщик и квасник был, с кадкой квасу на Ильинке стоял, царство ему небесное. Меня тут каждый знает.
Глава 7. Отцы и дети
Татьяна, ожидая мужа к обеду, выглядывала в распахнутое по случаю теплого дня оконце. Из высокой горницы была хорошо видна часть улицы. Наконец на ней появилась осанистая фигура Карпа Силыча, за которым шел Неждан, а рядом с ним еще какой-то незнакомый мужик с короткой рыжеватой бородкой.
– Когой-то Сам ведет? – проговорила Татьяна, обращаясь к самой себе.
Если к обеду бывали гости, то Татьяна принаряжалась, чтобы показаться им – для этого у нее в горнице всегда был приготовлен красный с нарядом суконный шушун. В остальное же время она носила куда более дешевые крашенинники, впрочем, все-таки с кружевом или вышивкой. Однако этот мужик менее всего походил на гостя. Продолжая думать, кого это привел муж, Татьяна пошла вниз, накрывать на стол. Ей помогала старшая дочка, тринадцатилетняя Дуняша.
Войдя в горницу, Карп снял шапку и перекрестился на образа. Дуняша вынесла таз и кувшин, Татьяна вышла с вышитым полотенцем. Хотя ели всей семьей вместе со слугами, но те мылись во дворе.
Карп Силыч занял свое хозяйское место во главе стола, Дуняша расставила миски и ложки по числу едоков.
– Еще одну поставь, – сказал отец.
Дуняша вопросительно взглянула на мать и поставила еще одну миску с ложкой.
– Я работника нанял, – объяснил Карп жене. – Неждана хочу в Архангельск послать, там и зазимует. А Федюшка вместо него на Волгу поедет к бухарцам, по первому снегу вернется. Даст Бог, вор Стенька не нагрянет. На это время работник нужен.
Татьяна кивнула. Она и без слов поняла, что хочет сказать муж. Был бы сын добрый, никакого работника бы не понадобилось. А Прошка только и делает, что ходит по кабакам, что ни день у него то медвежья травля, то на качелях с посадскими девками качается, то пляски. Говорят, в немецкой слободе видели его – табак курил! Отец как прознал про то, что сын пристрастился к этому бесовскому зелью, чуть не слег. Вот и сегодня – отец уже за столом, а Прохора нет. А ведь ждать никого не будут: как хозяин говорит, “обед брюха не ищет”.

А. П. Рябушкин. Семья купца в XVII веке.
В горницу тем временем вошли работники: Неждан, который считался своим, сел рядом с Сутуловым, Федюшка и новый работник уселись на другом конце стола ближе к двери. Хозяин прочел молитву. Перекрестясь, принялись за щи со снетками, так как была среда. После щей ели гороховую кашу с соленой рыбой. Еще на столе были огурцы, лук, пареная репа. Запивали обед квасом и кислыми щами.
Наконец, Карп Силыч поднялся, это означало, что обед закончен. Поднялась со своего места и Татьяна и начала собирать посуду. Работники, отвесив хозяевам поклоны, удалились.
– Дуняша, отнеси миски вниз, – сказала Татьяна.
Когда Карп Сутулов остался наедине с женой, на его лице появилось горестное выражение, какого никогда не бывало при посторонних.
– Вишь, мать, приходится работника нанимать. Родной сын есть, а будто и нет. На кого дело оставлю, случись что со мной?
– Да что ты говоришь, Карпуша, – ласково ответила жена. – Еще образумится наш Прошка, да и ты не старый, куда тебе о смерти думать. Я, вот, Карп Силыч, все думаю, может, женить его. Будет жена, пойдут дети, остепенится он, бросит своих дружков окаянных.



