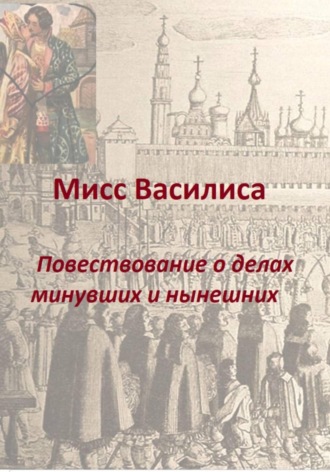
Полная версия
Мисс Василиса. Повествование о делах минувших и нынешних

Елена Милкова, Ирина Прокофьева, Игорь Клочков
Мисс Василиса. Повествование о делах минувших и нынешних
МИСС ВАСИЛИСА
повествование о делах минувших и нынешних
Часть первая
Глава 1. Вильгельм Завоеватель”
Погожим сентябрьским утром 1670 года трехмачтовый линейный корабль “Вильгельм Завоеватель” готовился выйти из дуврского порта. Сейчас он отправлялся не на войну – на борту его находилось английское посольство, следовавшее к русскому царю Алексею Михайловичу. Девяносто корабельных пушек, начищенных до блеска, готовились не стрелять по врагу, а приветствовать от имени Англии чужие страны и их жителей. Невысокие светло-зеленые волны плескались о борт огромного судна; множество чаек слетелось к кораблю, они махали крыльями перед лицами людей, стоявших у борта, и громко кричали, заглушая прощальные возгласы оставшихся на берегу.
Матросы стали поднимать якорь, и нарядная толпа провожающих, состоящая частью из родственников и друзей членов посольства, частью из лиц официальных, а в основном из тех, кто пришел сюда потому, что встречать и провожать корабли – одно из главных развлечений жителей портового города, напряглась, зашумела и в едином порыве замахала платками и шляпами. Корабельные пушки дали семь прощальных залпов. С берега им ответили тем же. Испуганные чайки разлетелись.
Распустили грот и стаксель; “Вильгельм Завоеватель” начал медленно отходить от пристани, оставляя на берегу людей, Дувр, Англию. Рассыпавшись по вантам, команда распускала один парус за другим; попутный ветер надувал очередной белоснежный парус, и красавец-корабль бежал все быстрее. Путь его лежал на северо-восток.
Глава миссии, сэр Энтони Гентли, пожилой грузный человек с длинными седыми волосами и крупной львиноподобной головой, уже сидел в своей каюте. Его темные усталые глаза были полуприкрыты, но все же он наблюдал, как посольская молодежь резвится на палубе и машет провожающим. Сэр Энтони не стоял у борта, потому что его никто не провожал. За свою долгую дипломатическую карьеру он столько раз покидал страну, что приучил к этому семью – леди Фелиция Гентли с дочерьми, теперь уже замужними, привыкла ждать его в Лондоне: там, у порога дома, она прощалась с мужем, там же и встретит его по возвращении. Глядя на молодых людей, с которыми ему предстоял долгий путь и трудная работа в далекой малоизвестной стране, сэр Гентли с грустью вспомнил, как сам почти сорок лет назад впервые отплывал с посольством, гордый от сознания того, что король поручил ему представлять Англию и отстаивать ее интересы в чужой стране. Тогда он был едва ли не моложе своих нынешних спутников. Как же давно это было…
Теперь сэр Гентли, которому недавно исполнилось шестьдесят, считал себя глубоким стариком – может быть, потому, что пережил три совершенно разных эпохи: царствование Карла Первого, революцию и реставрацию. Он был свидетелем множества событий, знал разных людей; видел, как некоторые из них менялись до неузнаваемости в зависимости от обстоятельств, поворачивая туда, откуда дует ветер.
Сам же он, несмотря на все внешние перемены, оставался все тем же сэром Энтони: верой и правдой служил королю – сначала отцу, теперь сыну – и Англии, что, впрочем, для него значило одно и то же. Когда разразилась революция, сэр Гентли оставался рядом с королем, после казни Карла I он предпочел родину эмиграции и вместе с немногими оставшимися в стране роялистами выступал за восстановление монархии и участвовал в заговоре с целью возвращения трона сыну погибшего короля.
Теперь вот по приказу Карла II он теперь отправляется в Московию.
Дувр был уже на горизонте, а молодые люди все еще махали шляпами и возбужденно переговаривались друг с другом. Большинства из них сэр Гентли не знал вовсе, с некоторыми был лишь немного знаком – посол не участвовал в отборе членов миссии. По его рекомендации в посольство был взят лишь один молодой человек Томас Торрингтон, сын его старинного друга сэра Мэтью Торрингтона, казненного Кромвелем. Посол знал Томаса еще мальчиком, помнил, с каким недетским мужеством он поддерживал свою мать в те страшные дни, когда его отец предстал перед судом и был приговорен к смерти. Знал он и о том, какое прекрасное воспитание и образование сумела дать сыну леди Маргарет, несмотря на то, что в революцию семья потеряла имение и осталась почти без средств. Сэр Энтони чем мог помогал жене покойного друга, но делал это всегда через Фрэнсиса Торрингтона, брата Мэтью, так как боялся, что гордая леди Маргарет не примет помощи от него, ибо никогда не признается, что испытывает нужду.
После реставрации королевской власти сэр Гентли был горд узнать, что Томас с честью продолжает традиции славного рода Торрингтонов, проявив мужество в войне, которую Англия вела с Нидерландами. Поэтому и решил взять молодого Торрингтона с собой, чтобы тот мог попробовать себя на новом поприще.
Когда сэр Энтони перед отплытием встретился с Торрингтоном-младшим, его поразило сходство молодого человека с отцом: то же красивое тонкое лицо, тот же пронзительный взгляд серых глаз, тот же благородный высокий лоб. Даже прическа была, как у сэра Мэтью: длинные до плеч рыжеватые волнистые волосы. И бородка та же – маленькая, клинышком посередине подбородка, в Англии такие бороды называют испанскими. Фамильное сходство было последним аргументом в пользу Томаса, оно-то и заставило сэра Энтони не только испросить назначения Торрингтона в миссию, но и потребовать для него почетной должности дворянина по положению. В конце концов, сэр Гентли возглавлял посольство, и ему было вовсе не безразлично, кто будет в миссии вторым по важности лицом.
Назначение главой посольства в Москву порадовало сэра Гентли, хотя и несколько удивило. Говоря по совести, он не очень-то рассчитывал, что о нем еще помнят при дворе, так как последние три года был не у дел. А все после злосчастного Бредского мира. Сэр Гентли до сих пор не мог вспоминать о нем без гнева. По окончании в 1667 году войны с Нидерландами, которая в очередной раз подтвердила славу английского оружия и доказала полное превосходство английского флота, он лично участвовал в мирных переговорах в Бреде. Был он тогда, правда, не главой, а рядовым членом делегации. Гнев его вызывало, естественно, не это обстоятельство – старый политик был готов в любом качестве служить своей стране, и если на Страшном Суде зачитают список его грехов, то как бы велик он ни оказался, греха тщеславия в нем значиться не должно.
Возмущало сэра Энтони совсем другое, куда более для него важное: этот мир представлялся ему крайне унизительным для Англии. Еще бы! Какая война выиграна! Нидерланды на коленях! О чем должны думать в это время дипломаты, прибывшие для заключения мирного договора? Ответ очевиден: о том, как извлечь для своей страны пользу из сложившейся ситуации. Никто не говорит, что поверженных нужно грабить, но интересы своей страны необходимо блюсти. Однако английская делегация, включая главу, сплошь состояла из новомодных дипломатов, пересидевших революцию в эмиграции – главным образом во Франции. Там они научились только галантные поклоны отвешивать да по-французски говорить. И каковы же результаты переговоров? Англия получает маленький городишко в Америке, а взамен отдает Нидерландам Суринам с его плодороднейшими землями и Молуккские острова, откуда в Европу привозят все пряности!
Ну, хорошо, Джеймсу1 понадобились новые личные владения, король замысел одобрил – и полковник Николс без единого выстрела с парой сотен солдат занял этот Новый Амстердам. После чего, собственно, и начались военные действия в Европе. Воевали, воевали – победили. Ради паршивого городишки, который к началу переговоров в Бреде уж три года, как назывался Новым Йорком, решили разбазарить прекрасные старинные владения! Вот вам и новая дипломатия… Voulez-vous Суринам, господа голландцы? S'il vous plait2. Voulez-vous Молуккские острова, господа проигравшие? S'il vous plait вам Моллукские острова. Дался этот Новый Амстердам! Переименовали, а что толку? Да хоть как угодно его называй, ни больше, ни лучше он от этого не станет!
Сэр Энтони один был против подписания этого договора и даже подал королю ремонстрацию, в которой доказывал, что условия мира абсолютно не приемлемы для Англии как победившей стороны. Ремонстрация, впрочем, так и осталась без ответа, а сэра Гентли больше никуда не посылали. А тут вдруг прибывает человек от лорда-канцлера: тот, мол, требует его к себе. Сэр Энтони не замедлил явиться, и вот он уже в Дувре на “Вильгельме Завоевателе”, отплывает в далекую Московию.
Цель миссии, казалось бы, проста: добиться восстановления особых прав английских купцов на беспошлинную торговлю во всем Московском царстве, которые те имели до 1649 года. Московский царь Алексей отменил привилегии англичан после казни короля Карла I. Сэр Энтони краем уха слышал об этом и оценил жест русского правителя. Сразу же после реставрации Карл II отправил в Москву посольство графа Карлейля с благодарностью за поддержку в тяжелые времена и с просьбой об отмене прежнего решения. Но Алексей благодарность принял, а просьбы удовлетворять не стал, ничем, впрочем, не мотивируя, кроме своей монаршей воли. С того времени прошло восемь лет – решили попробовать еще раз. Очень уж купцы настаивали.
Корабль шел курсом на шведский город Ригу. Путь от Риги до Москвы предстояло проделать в повозках или в санях, в зависимости от погоды. Собственно, добраться до этой самой Москвы можно было двумя путями: через Ригу или через русский порт Архангельск, важно было знать, какой путь до Москвы – от Риги или от Архангельска – был лучше. Сэр Гентли, получив назначение, встречался с графом Карлейлем и среди прочих выяснял с ним и этот вопрос. К чести сэра Энтони нужно заметить, что слова Карлейля о том, что оба пути до Москвы равно плохи, но от Риги меньше шансов замерзнуть, не слишком его обескуражили. Старый дипломат и политик, он служил английской короне в столь бурное и трагическое время, что мысли о личных удобствах и даже безопасности давно не приходили ему в голову.
Палуба опустела, значит, Дувр окончательно скрылся из виду; сэр Гентли все сидел у себя в каюте и размышлял. Что он знал о Московии? Почти ничего. Только то, что при встрече рассказал Карлейль. Сэр Гентли пытался представить себе московитов в огромных высоких шапках – когда Карлейль показывал высоту этих шапок, ему едва хватало руки – да с длинными густыми бородами – тут Карлейлю рук уже не хватало. Сидят эти бородачи, кивают. Кажется, все поняли, со всем согласны. А как до дела: нет, простите. Нет – и все тут. А самый непонятный человек – царь. У того и шапка невелика, и борода покороче; впрочем, в Европе и таких бород не носят. Лицом приятен, в разговоре умен, посмотришь – европеец. Принимает же лучше любого европейца. Обо всем расспросит, во все вникнет. Добр, обходителен и учтив. А как решение принимать: нет, говорит, на то нашей монаршей воли. Ни объяснений, ни условий… Нет, говорит, воли! Что тут поделаешь?
“А действительно, что тут поделаешь? – думал сэр Гентли. – Мы ведь хотим вернуть привилегии, ничего взамен не предлагая, только потому, что когда-то они у нас были. Но ведь это не основание. Так политика не делается. Просишь об услуге – покажи, в чем сам можешь быть полезен. Это и есть дипломатия. А хорошая дипломатия – это когда твоя услуга тебя ничем не обременит, а взамен получишь нечто важное. Это не Суринам на Новый Амстердам менять”. Неприятные воспоминания не давали покоя сэру Гентли.
В дверь каюты постучали. Это оказался старый Джеймс, слуга сэра Энтони, который вот уже много лет повсюду сопровождал своего хозяина.
– Не угодно ли чего, сэр? – громко спросил Джеймс.
– Чай, а потом распакуй письменный прибор и приготовь мои бумаги, – тоже громко ответил сэр Энтони. В последние годы Джеймс стал хуже слышать, и хозяину приходилось говорить с ним громче, чем он говорил обычно.
Джеймс исчез и через несколько минут вернулся с небольшим медным тазом и кувшином воды. Сэр Гентли, не вставая, вымыл руки, вытер их приготовленной Джеймсом салфеткой, потом выпил чашку чая, поданную старым слугой, и, не меняя позы, стал ждать, когда тот расставит на столе письменные принадлежности и положит нужные сэру Энтони бумаги.
Оказавшись три года назад не у дел, сэр Гентли принялся за написание трактата, который он озаглавил “De re diplomatica”3.
В своем сочинении старый дипломат хотел не просто осмыслить собственный опыт, который совершенно искренне не считал эталоном. Нет, сэр Гентли задумал теоретический труд, он пытался представить, какой должна быть дипломатия, а исторические примеры, в том числе и собственные, использовал лишь в качестве иллюстраций. Посол хотел, чтобы с его идеями познакомились не только в Англии, а потому, дабы трактат был общедоступен, писал его на латыни. Да так оно было и проще: не нужно было придумывать новых слов и объяснять их значения, вся терминология давно и хорошо известна. В последнее время среди необразованной молодежи все чаще стали слышны призывы использовать в качестве языка дипломатии какой-либо из современных языков, обычно речь шла о французском. Сэра Энтони, не любившего все, что исходило из Франции, – надо сказать, что в этой слабости он себе честно признавался, – подобные разговоры возмущали; это заставило его посвятить языку дипломатии особую главу своего трактата – “De lingua diplomatica”4, где он доказывал всю абсурдность подобного предложения.
В настоящее время он работал над главой “О пользе постоянных дипломатических представительств”. Идеи, высказанные в ней, были до того новы, что их можно было бы назвать революционными, если бы сэр Гентли не презирал слово “революционный” даже сильнее, чем французский язык. До сих пор все дипломатические связи были временными, можно сказать – случайными. Возникла нужда, вот как сейчас, и лорд-канцлер вызывает какого-нибудь сэра Энтони и велит снаряжать посольство в Московию, а то и подальше. Сэр Гентли предлагал решительно изменить практику: он считал, что в каждой стране следует держать постоянную миссию. Преимущества этого были столь очевидны, что в трактате их оставалось только перечислить, серьезных объяснений они не требовали. Вот будь сейчас в Москве постоянное английское посольство, нужно было бы только передать туда указание немедленно вернуться к переговорам о купцах. А то и указания не надо: посол сам бы нашел подходящий момент для того, чтобы поднять этот вопрос. И знал бы, какие нужды у московского царя, что ему предложить взамен. Где уступить, когда потребовать.
А так едет посольство – куда? зачем? ко времени ли? Что, если у царя траур или в стране мор? Какие тут особые права английских купцов? Чтобы обезопасить собственных послов в чужих странах, сэр Энтони предлагал по взаимной договоренности держать иностранных послов в своей столице, вроде как почетных заложников. Через них, впрочем, тоже можно было бы сноситься с державой, которую они представляют. Так и пойдет работа, как в хорошо отлаженном механизме: донесения сюда, указания туда. Все сделано, все вовремя, все четко. Сэр Гентли с удовольствием представлял себе мир, опутанный сеткой дипломатических миссий. Благодаря этому и воевать можно будет меньше. Хватит Англии терять своих сыновей. Сколько их осталось на дне Канала5 после той войны с Нидерландами? Суринам с Молуккскими островами и без выигранной войны можно было отдать, раз уж так хотелось…
Сэр Гентли запретил себе возвращаться к мыслям о злополучном договоре, обмакнул перо в чернила и принялся за работу.
Глава 2. “ Томас и Бэзилайза
«Архивный червь». Так говорят об историках. Это в какой-то степени правда. Но потревоженные тени прошлого влоуг врываются в твою жизнь и перекраивают ее по им одним веданным законам. И тогда начинаешь оправдывать название своей профессии и влипаешь в одну историю за другой.
Я корпела на архивами того периода, когда Нью-Йорк только-только перестал быть Новым Амстердамом, а население его то сильно переваливало за тысячу, а то сокращалось до нескольких сот человек. Это так говорится, что Новый Амстердам располагался на Манхеттене, на самом деле Новым Амстердамом был лишь район Гринич-Вилидж, и только при англичанах огороды и пастбища постепенно начали с современных двадцатых улиц перемещаться дальше на север, а Гарлем еще долго оставался дремучим лесом. Красота!
Главное, несмотря на разделяющие нас три с небольшим столетия, я прекрасно знала и старожилов «города», и вновь прибывших. Американский характер уже начал проявляться: казалось бы, живи – не хочу, но время от времени какая-то семья или группа приятелей срывалась с насиженного места и отправлялась на поиски счастья. Одни делали это от неуживчивости, другие из жажды наживы, третьи просто просто так. Похоже, любители приключений преобладали. И я – по архивам – кочевала вместе с ними. Не было не только Дальнего Запада, не было Пенсильвании (а Уильяму Пенну, в честь которого этот штат назван, пока даже не приходило в голову покидать Старушку Англию), поэтому и путешествовали в основном по побережью, куда-нибудь в Портсмут, Нью-Хэмпшир, или уж на самый край света – в Портленд, штат Мэн… (Впрочем, кажется, в мой период – семидесятые годы – Портленд на несколько лет превратился в поросшие бурьяном головешки: сгорел дотла усилиями индейско-французской коалиции.)
Надо сказать, к этим каботажникам душа у меня не лежала. А вот кто приводил в полный восторг, так это пионеры, решавшиеся отправится в доселе неизведанную глубь материка, вверх по Гудзону выше Олбани, или по Коннетикат-Ривер в дикие места к северу от Хартфорда. Вот за одной такой нью-йоркской компанией я и увязалась. Заводилой был, кажется, племянник Томаса Донгана, губернатора колонии Нью-Йорк, но, похоже, что его соблазнила группа шведов из Филадельфии (этих-то что сюда потянуло, плыли бы себе вверх по Делаверу…)
Надо думать, я уже утомила русского читателя всеми этими Портсфордами, Хартсмутами и их обитателями. Но для американцев – это святая святых, начало истории. Если не первый День Творения, то уж Шестой – наверняка. Каждый хочет иметь богатую историю, а посему в любом университете Новой Англии деньги на исследования вроде моих дают, пока не особенно жмотясь. И я стараюсь.
Правда, не в коня корм: рядовой американец представляет себе эту античность Нового Света так, как если бы русский был убежден, что “на диком бреге Иртыша” сидел Ярослав Мудрый, поджидая гражданина Минина Михаила Илларионовича и князя Хабарова, чтобы вместе брать Казань…
***
Итак, Хартфорд, штат Коннектикут; рутинное копание в архивах в поисках сведений о Джозефе Донгане и его товарищах. И вдруг я натыкаюсь на удивительное и потому взволновавшее меня имя: церковная метрическая запись о том, что 1 мая 1674 года был крещен младенец именем Savva Torrington, сын Томаса и Бэзилайзы Торрингтон.
Сначала я просто не поверила своим глазам. Бэзилайза… Это ж Василиса! Откуда она взялась в Америке XVII столетия? Фантастика какая-то. Во всей Англии, Шотландии и Уэльсе, не говоря уже об Ирландии, вряд ли сыскалась бы хоть одна Василиса, разве что гречанка… Хотя какая там гречанка, когда никакой Греции не было и в помине, а одна сплошная Турция. Неужели русская? Или это фантазия, пришедшая в голову кому-нибудь из пресвитериан, которые никогда не придерживались какого-то строгого именника, и у них до сих пор именем становится фамилия любого президента, хочешь Адамс, хочешь Хувер.
В XVII веке не только Рузвельтов, но и Франклинов еще не было, и их место занимали многочисленные библейские персонажи: Урия, Иов, Эсфирь. Но уж все-таки не Василиса и, тем более, не Савва.
Эта загадка так заинтересовала меня, что я стала искать сведения об этих таинственных людях, которых вполне можно было бы счесть русскими, если бы это не было решительно и совершенно невозможно. Фамилия Торрингтон, разумеется, никаких сомнений не вызывала, как совершенно англо-саксонская, но имена…
Короче, я перерыла все архивы и снова наткнулась-таки на Василису. Это была проповедь преподобного Иеремии Сайкса, прочитанная в Хартфорде, нынешний штат Коннектикут. Проповедник обрушивал свой гнев на папистов, англикан и других отступников, а также упоминал, причем весьма нелицеприятно, о двух заблудших душах, жене и муже, из коих мужчина погряз в лжеучении англиканства, которое суть тот же папизм, а жена его и вообще придерживается греческой веры, где поклоняются идолам в виде картинок, считая их святыми изображениями. Весь пыл Иеремия Сайкс направлял на то, что пресвитерианская община должна забрать у неугодных родителей сына, ибо какое воспитание получит ребенок в такой семье?
Отняли или нет сына у Василисы Торрингтон, так и осталось неизвестным, поскольку, несмотря на все усилия, мне не удалось найти более ни единого упоминания об этой семье.
Конечно, весьма соблазнительным казалось сопоставление этой фамилии и названия городка в том же Коннектикуте. В Торрингтоне ведь родился тот самый Джон Браун, о котором поют янки в гимне “Глори, глори, алилуйя!”. Однако, увы, Торрингтон был основан на берегах реки Наугатук значительно позже, в 1735 году выходцами из Виндзора. В это время Томас и Василиса, даже если и были живы, наверняка совсем одряхлели.
Ничего не дало и обращение к истории Англии. Ни граф Артур Герберт Торрингтон, ни виконт Джордж Бинг Торрингтон, современники моего Томаса, не имели родственников, которых бы так звали.
Я занялась другими исследованиями, и все-таки фамилия Торрингтон не шла у меня из головы. Томас Торрингтон был, судя по словам Сайкса, англиканином, то есть среднестатистическим лояльным британцем, признающим короля (или королеву) главой церкви. Но что ему делать в Коннектикуте XVII века, куда ехали либо религиозные фанатики, либо преступники, скрывавшиеся от закона. Приходилось предположить второе. Дальше этого соображения я не пошла.
Глава 3. Дворянин по положению
Томас Торрингтон дольше других оставался на палубе. Там внизу, в толпе провожающих, стояли его мать, дядя Фрэнсис и горничная матери Нэнси. Томас хорошо видел их: матушка подносила платок к глазам – значит, как ни крепилась, не выдержала, расплакалась; Нэнси тоже была взволнована, она даже подпрыгнула, чтобы лучше видеть Тома, и изо всех сил махала платочком. Потом спрятала его и украдкой послала воздушный поцелуй. Матушка, к счастью, ничего не замечала.
Леди Маргарет была мужественной женщиной, рассудительной и разумной, презиравшей темные суеверия. Однако сейчас она не могла отделаться от чувства, что видит сына в последний раз. Казалось бы, для таких мыслей не было никаких оснований, но как ни взывала она к голосу рассудка, ощущение безвозвратной потери не проходило. Леди Маргарет уже однажды испытывала это чувство, когда по приказу Кромвеля увели ее мужа, сэра Мэтью. И тогда все окружающие, тот же Фрэнсис, убеждали ее, что он скоро вернется. Она не смогла пойти на суд, только видела его голову выставленной на Лондонском мосту.
Вот почему леди Маргарет проделала весь нелегкий путь из Корнуэлла – она хотела еще раз взглянуть на сына. Возможно, в последний.
А вот Нэнси совершенно не разделяла мрачных предчувствий своей хозяйки. Напротив, она была уверена, что Томас вернется совсем скоро, привезет ей заморский подарок, а потом… Кто знает, не станет ли она, Нэнси, вернее Агнес Пентуин, хозяйкой поместья Торрингтонов!
Томас смотрел на мать, на дядю, на Нэнси, и ни о чем не думал. Начиналось долгое путешествие в малоизвестную страну, он волновался, как перед боем, и это волнение заглушало тоску по близким. Немного тревожила мысль о матери, которая в последнее время чувствовала себя неважно, но тут загремели пушки, и мысли Томаса понеслись в другом направлении.
Корабль отчалил. Кричать было уже бесполезно, и Том только стоял и смотрел, как фигуры матери и Нэнси становятся все меньше и меньше, пока пристань и толпа на ней не исчезли совсем. Стало прохладно, солнце спряталось за тучи, вокруг, насколько хватало глаз, простиралось лишь свинцовое осеннее море и такое же свинцовое небо. А Том все стоял и смотрел на медленно удаляющийся английский берег и пытался представить, что ждет его впереди в неизведанной дикой стране.
Двадцатипятилетний Томас Генри Торрингтон не был профессиональным дипломатом, обязанности свои он представлял смутно и ждал, не пожелает ли сэр Энтони встретиться с ним, чтобы разъяснить смысл предстоящей работы. Тот, однако, при первой и пока единственной встрече был неразговорчив, справился лишь о здоровье матушки, сказал, что горд былой дружбой с его отцом и выразил надежду, что сын окажется достойным отца. Том из этой беседы так ничего нового и не узнал, но решил не торопить события.
Пять лет назад на таком же корабле он отправлялся на войну к берегам Нидерландов, тогда он тоже не точно знал, что ему предстоит делать. Пришло время – узнал. И делал не хуже других.



