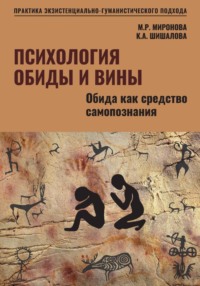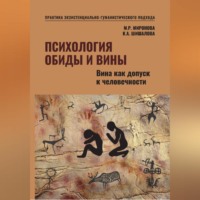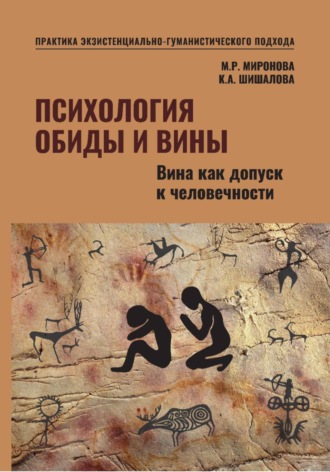
Полная версия
Психология обиды и вины. Вина как допуск к человечности Том 2 Миронова М.Р. Шишалова К.А.
Психолог: Ты обиделся на него?
Клиент: Нет.
Психолог: Слушай, ты четыре месяца на улице жил, сам мне рассказывал, как в мусорных баках ночевал и от панков бегал. Неужели все оттого, что боялся отца?
Клиент: Вы что, не понимаете? Я его подвел! Зачем ему такой сын…
Психолог: А когда родители тебя нашли, что он сказал?
Клиент: Ничего, плакал только.
ВВЧ: Чем, на ваш взгляд, отличается детская вина от вины родителя? Чем похожа?
5. Вина перед собой (за то, что я не могу быть тем, кем мог бы)Эта разновидность вины вовсе не является признаком принадлежности к исключительно высокоинтеллектуальным и высокодуховным людям. Она встречается сплошь и рядом, независимо от уровня образования, счета в банке и даже возраста, проявляясь чаще всего в виде самонаказания. Говоря о самонаказании, мы имеем в виду не только очевидные его формы, такие как самоповреждение, нанесение себе увечий, ран, жестких ограничений в еде, лишение себя отдыха, бесконечная ругань в свой адрес. К самонаказанию можно отнести и гораздо менее заметные самоограничения, которые можно описать словами «лишение себя радости».
Диалог «Сон о крыльях»
Психолог: Ну что ты делал в выходные?
Клиент (вяло): Ну что, ну поработал, дом убрал, продукты заказал и принял. Все по местам расставил, кино посмотрел.
Психолог: Какое?
Клиент: Да не помню я. Я вообще кино не люблю.
Психолог: А зачем смотрел?
Клиент: Ну чем-то надо было себя занять, не «Дом-2» же смотреть! Иначе такая тоска навалится.
Психолог: Да, впечатление такое, что выходные удовольствия тебе никакого не доставили.
Клиент (понуро): Какое уж тут удовольствие. Вискарь в субботу вечером, и то не знаю, зачем. Оглушает только.
Психолог: Слушай, а что, в этой жизни вообще тебе ничего удовольствия не доставляет?
Клиент (вяло): Ну работа.
Психолог: Просто море энтузиазма у тебя по поводу работы.
Клиент (несколько собираясь): Ну знаешь, еще ты издеваться будешь. Работа меня хоть как-то удерживает от того, чтобы каждый день пить.
Психолог: Хорошо, что удерживает. Но всю жизнь на привязи ты же не сдюжишь. Кроме страха спиться у человека должно быть хоть что-нибудь, чтобы жить. Жизнеутверждающее, причем.
Клиент (раздраженно): Глупости это все.
Психолог: Да и пусть глупости. Для разнообразия поговорим и о пустяках. Тебе когда-нибудь что-нибудь удовольствие в жизни доставляло?
Клиент (долгая пауза): Когда-то спортом занимался. Подавал большие надежды. Чемпион, блин.
Психолог: Расскажи.
Клиент: Да нечего рассказывать, обычная история. Я боксом занимался. На городских соревнованиях побеждал. Мне нравилось, я прям летел туда. Родители спокойно к этому относились – побеждаешь – и молодец, по улицам не бегаешь, и хорошо! А потом меня тренер на первенство России повез. Я там место занял. И мне предложили переехать в Москву и там в спортивной школе учиться. А я отказался. Я даже родителям не сказал.
Пауза.
Психолог: А дальше что было?
Клиент: Да забросил… Как-то неинтересно стало. Как посмотрю на перчатки, даже противно становится. Ну просто бросил. (Пауза.) Но мне иногда до сих пор снится, что я на соревнованиях, и передо мной соперник… И меня переполняет азарт, я чувствую, что я все могу, как будто крылья за спиной разворачиваются. (Пауза.) Я же говорю – глупости это все…
Психолог: Это не глупости. Это вдохновение.
Клиент (со злостью): Глупости! В нормальной жизни вдохновения никакого нет! Работа есть, обязательства, на крайняк – интернет, чтобы отвлечься. (Пауза. Закрывает лицо руками, с болью говорит): Вот зараза, всю душу разбередил!
ВВЧ: Как вам кажется, какую норму нарушил человек из этого диалога? За что он винит себя?
Наверное, разновидностей вины больше. Мы описали те, с которыми сталкиваемся чаще всего. По мере того как будет меняться наш мир, нормы поведения, а главное – правила объединения людей в группы своих, – будут меняться и наши переживания. Какие-то разновидности вины будут угасать и исчезать, какие-то появляться. Но, как нам кажется, они все же будут похожи на описанные выше.
В первой части, описывая феноменологию вины, мы постараемся дать базовое описание «простой» вины, связанной с вольными или невольными действиями (бездействием), нарушающими нормы общежития. Более сложные, неочевидные разновидности вины мы подробнее опишем тогда, когда разберемся с простыми. В главе «Особые виды вины» мы представим вину за утрату, вину выжившего, вину за отсутствие всемогущества, вину за существование, вину за особую телесность, вину за чужое страдание.
Глава 2. СИТУАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВИНЫ
В отличие от обиды, ситуации вины издавна обдумывались людьми и даже описывались в документах. Первый дошедший до нас письменный документ, фиксирующий вину и санкции за нее (Кодекс Хаммурапи), был написан почти 4000 лет назад. Обиды люди так подробно не описывали. Мы считаем необходимым упомянуть здесь не только условия возникновения, но и основные ситуации вины. Именно вследствие скрытого характера протекания вины, иногда ее можно опознать только по ситуации, в которой возникают неприятные тяжелые переживания, странное поведение или необъяснимые эмоции, сопутствующие вине (гнев, обида, страх, и т. д.).
1. Ситуации осознанной вины:
• Причинение ущерба или вреда «своим» (тем, кому присвоен этот статус).
• Нарушение договоренностей.
• Нарушение законов, правил или этикета (писаных, неписаных, существующих не для всех).
• Ошибка, в том числе, ошибка ожиданий.
2. Ситуации, вызывающие вину автоматически:
• Обвинотрицание конение комфортной, привычной или приличной дистанции взаимодействия.
1. Ситуации осознанной виныВольное или невольное причинение ущерба, нанесение вреда своим – тем, кто наделен этим статусом
В этой простой формулировке содержится целый ряд достаточно неочевидных моментов.
Начнем с определения, что такое ущерб или вред. Иногда это сделать просто – если ущерб явный. Но иногда для определения ущерба требуется экспертиза.
Возьмем, к примеру, всем известную ситуацию: мы поцарапали чужую машину. Вина возникнет в любом случае. Она будет с оттенком досады, если мы сделали это невольно, она может сопровождаться обидой или гневом, если мы сделали это в отместку или от злости. А вот размер ущерба и, соответственно, сила переживания вины зависит от того, была ли машина застрахована. Осознание того, что ремонт оплатит страховая компания, обычно существенно облегчает наши переживания (если вред был нанесен случайно).
Как правило, у нас не возникает вины в отношении тех, кто не является «своими». Но часто само определение «своих» расширяется, и мы причисляем сюда не только людей, но и животных, растения, любимые предметы, объекты природы, исторические памятники, целые города и страны, а также исторические события – и в этом смысле, это все «наше». Вина за то, что мы потоптали красивую клумбу или вовремя не накормили собаку, может быть ничуть не меньше, чем вина перед человеком, которому мы вольно или невольно навредили.
В данном случае нарушенная норма чаще всего формулируется так: «Человек не должен причинять ущерба своему окружению».
Нарушение договоренностей
Нас всех учат, что слово человека должно быть нерушимо, и это понятно, потому что кооперация и вообще любое взаимодействия невозможны в социуме, где договоренности ничего не стоят. Для того, чтобы жить, мы должны строить планы. Совместные планы требуют определенных долгосрочных договоренностей между людьми. Мы так устроены, что спланированное, но еще не наступившее будущее, мы ощущаем уже принадлежащим нам. Когда кто-то нарушает договоренности и разрушает наши планы и представляемое будущее, мы переживаем существенную утрату, как если бы потеряли часть собственности или себя. План ощущается частью личности, являясь феноменом веры как общепсихического явления. (existedu.ru) [1]. Поэтому у нас у всех огромный опыт переживания горя и обиды от разрушенных планов. Каждый родитель с содроганием вспоминает многочисленные детские «ты же обещал!» Каждый ребенок (включая давно выросших) помнит свои горькие слезы, когда родители не держали обещания.
Поэтому нарушение договоренностей обоснованно считается серьезным нарушением правил общежития и является одновременно ситуацией и осознанной, и автоматической вины. Нарушая данное слово, мы ощущаем вину, даже если у нас были железобетонные основания, чтобы его нарушить. В данном случае норма, запрещающая нарушать договоры, зафиксирована даже в поговорках: «Уговор дороже денег», «Назвался груздем – полезай в кузов» и так далее, и так далее.
Нарушение законов, этикета или правил (писаных, неписаных, существующих для всех и не для всех)
Законы, этикет, протоколы поведения, правила – это все зафиксированные договоренности. В нашем обществе все эти правила обычно записаны и ознакомление с этими правилами считается ответственностью каждого зрелого члена общества. Но это не всегда одинаково просто. Некоторые законы и правила описаны в книгах и подлежат изучению. Например, уголовный и гражданский кодекс или правила движения.
Другие такие фиксированные договоренности передаются в устной форме, например, правила поведения за столом или правила игры в пятнашки. Хотя в теперешней ситуации существует огромное количество видеоматериалов, иллюстрирующих то или иное правило. У неписаных правил есть огромное количество нюансов относительно ситуаций, где они применимы, и строгости их соблюдения. Например, известно, что воспитанный человек не облизывает тарелку, но даже самый воспитанный человек делает это в одиночестве (или если ему лень мыть посуду). Самые большие сложности возникают в отношении правил, которые принимаются не всеми. Обычно это относится к разного рода этикетам. Возьмем, к примеру, правила прохода в дверь, существующие в разных культурах. Еще совсем недавно везде в Европе было принято, чтобы мужчина открывал перед женщиной дверь, даже если они не знакомы. Сейчас это правило в России соблюдается уже не очень жестко, хотя все же приветствуется[4], а, например, во Франции от этого правила отказались уже достаточно давно. И мужчина-француз, приехавший в Россию, может выглядеть невежливым, выполняя правила своего французского этикета. Если ему сообщить, что он нарушает правила этикета, то он будет удивлен, возмущен и, скорее всего, почувствует вину.
В нашей практике была работа с супружеской парой, в которой вопрос, кто первый проходит в дверь, был причиной постоянных ссор. Люди часто очень серьезно относятся к усвоенным правилам поведения и считают их не только верными, но и лучшими из возможных. Иногда правила поведения становятся опознавательными знаками, свидетельствующие о том, что имеем дело со своими или чужими. Довольно часто манера держать столовые приборы, здороваться при встрече, оплачивать покупки становится непреодолимым препятствием между людьми. Чувствовать себя чужаком никому не хочется, поэтому чаще всего, нарушив даже чужое, совершенно неизвестное нам правило, мы ощущаем вину, которой часто сопутствует стыд. Например, если в спортзале, мы, ни о чем не подозревая, простодушно перешагнули через лежащую штангу, на нас обернутся все присутствующие здесь тяжелоатлеты, а тренер скажет: «Не делай так, так не принято, это – плохая примета». Мы знать не знаем, что это за примета и какое правило мы нарушили, но после этого инцидента некоторое время будем чувствовать себя виновато и неудобно. Если мы хотим быть «своим» среди этих внушительных спортсменов, то не забудем об этом странном правиле. Но если мы отнесемся к нему несерьезно – как к глупости, суеверию, то с нами, скорее всего, не будут общаться в этом сообществе, посчитав это признаком неуважения. Норма, фиксирующая необходимость соблюдать правила и уважать правила, тоже закреплена в поговорках. Например, «В чужой монастырь со своим уставом не ходят», «Перед законом все равны», «Гость хозяину не указчик», «Безобычному человеку с людьми не жить» и так далее. Интересно, что мы будем переживать вину даже в том случае, если не согласны с правилом, которое нарушили. Правила – настолько важная вещь для человека, что, обнаружив чужое правило, с которым мы не согласны, мы довольно часто стараемся его уничтожить и заменить на свое. Совершить эту замену нам почему-то представляется делом более легким, чем постоянное переживание вины.
Диалог «Бабушкина чашка»
Хозяин (гостю): Пойдем чай пить.
Гость: О, какая чашка! Как раз мой размерчик!
Хозяин: Возьми, пожалуйста, себе чашку вон из того шкафчика.
Гость: Да я уже взял, не беспокойся.
Хозяин: Слушай, это бабушкина, она не любит, когда ее берут. Возьми лучше там.
Гость: Да ладно, я потом вымою и на место поставлю, она и не заметит.
Хозяин: Слушай, не надо брать бабушкину чашку, если она заметит, она расстроится.
Гость: Так не заметит же!
Хозяин молча берет бабушкину чашку и убирает глубоко в шкафчик. Достает гостю другую.
Гость: Вот же люди себе проблемы выдумывают, какая разница, из чего пить!
Хозяин (резко): Если тебе без разницы – пей из этой!
Гость: А чего я такого сказал? (Продолжает бубнить) Напридумывали тут всяких дурацких правил…
ВВЧ: Чем, на ваш взгляд, вызвано странное упорство гостя? Что испытывают хозяин и гость?
Ошибка, в том числе ошибка ожиданий
Значение слова «ошибка» достаточно многообразно. Мы остановились на следующих:
• непреднамеренное случайное отклонение от правильных действий, поступков и мыслей;
• разница между ожидаемой (или измеренной) и реальной величиной.
Практически всегда мы говорим «ошибка», когда получилось не совсем то, что мы задумывали. Или совсем не то. Или, когда последствия наших действий оказались не теми, которые мы планировали.
Никому не нравится ошибаться. Хотя ведь это странно – каждая наша ошибка является источником знаний, добавляет что-то к реальной картине мира. Но все же нам очень неприятно сталкиваться с тем, что мы ошиблись в расчетах, чего-то не учли, невовремя отвлеклись или выбрали неверный источник информации. В тех случаях, когда мы считаем, что ошибок быть не должно, – мы испытываем вину за ошибку. К сожалению или счастью, мы почти всегда считаем, что ошибок быть не должно, и при этом почти всегда допускаем ошибки. На этот счет тоже существует множество поговорок. Самая известная – латинское изречение «Errare humanum est» («Человеку свойственно ошибаться»). Ошибка – в природе человека. Не ошибаться – это фактически идти против своей природы. Сила переживания вины прямо пропорциональна нашей уверенности в том, что мы были правы, фактически прямо пропорциональна силе ожидания. Видимо, в данном случае переживание вины связано с тем, насколько мы полагаемся на верность своей картины мира. Возможно, где-то глубоко внутри мы считаем, что очень опасно иметь неверные представления о том, каков мир вокруг. Вина в данном случае есть наказание за беспечность, за недостаточно тщательное исследование мира вокруг и нашего взаимодействия с ним. Вина за ошибку напоминает, что продумывать, просчитывать, планировать действия, а потом тщательно и внимательно их выполнять – важно для выживания. Недаром самостоятельно найденная ошибка вызывает не только вину, но и победный восторг. Некоторым это настолько нравится, что они занимаются поиском ошибок профессионально (аудиторы, например, или контроллеры газового оборудования).
Если бы у нас не было страха совершить ошибку, мы бы все делали небрежно и, наверное, не выживали бы. Люди, совсем не боящиеся ошибок, редко делают свою работу хорошо. Но те, что постоянно чувствуют вину за любую, даже самую незначительную ошибку или за ту, что невозможно предвидеть, часто вообще ничего не делают, потому что знают, что все равно ошибутся и будут страдать от вины. И так нехорошо, и так плохо. С этой разновидностью вины, испытывать которую мы обречены каждый раз, когда что-то делаем (выступаем в качестве субъекта), приходится сживаться и дружить.
ВВЧ: Как вам кажется, какую цель имеет смысл ставить, пытаясь избавиться от вины за ошибку?
2. Ситуации, вызывающие вину автоматическиОбвинение явное и неявное
Обвинение является более частным случаем гораздо более общего социального действия – осуждения и вообще оценки. Автоматический характер реакции на осуждение и на оценку люди заметили достаточно давно. Призыв «не судить» закреплен даже в библейских заповедях. Собственно, автоматическая реакция на оценку, которая ярче всего описана в концепции ненасильственной коммуникации М. Розенберга [48], и навела нас когда-то на мысль о неизбежности возникновения вины, обиды и об их несомненной важности, более того – об их регуляторной функции в общении людей.
Обвинением мы будем считать негативную оценку действий человека, его поведения, последствий его действий, в которой содержится указание на неправильность, незаконность этих действий и в которой причиной всего происходящего объявляется человек, в полной мере обладающий субъектностью. Субъектность в данном случае предполагает возможность и способность человека влиять на происходящее.
Обвинения всегда опираются на некую норму, общую для обвиняемого и обвинителя. Если у обвиняемого нет понятия об этой норме, он с ней не согласен или не считает обвиняющего «своим» – чувство вины не возникает.
Явное и неявное обвинение автоматически вызывает у человека, которого обвиняют, переживание вины. Это переживание возникает даже в том случае, если мы точно знаем, что не виноваты. Более того, иногда абсурдное обвинение может оставить глубокий след в жизни человека, вызвав иррациональную вину на долгие годы. Можно даже сказать (со всеми возможными оговорками), что чем более абсурдно и расплывчато обвинение, тем дольше и глобальнее переживание вины. Потому что очень трудно оправдаться, когда обвинения непонятны, сложно получить поддержку у группы, потому что стыдно делиться такими «глупыми» переживаниями, их трудно объяснить и невозможно забыть, по закону незавершенного гештальта.
Диалог «Друзья» (телефонный разговор)
Первый: Привет! Слушай, ты завтра за рулем? Мне надо материалы для ремонта с базы забрать, а у меня машина в сервисе. Можешь выручить?
Второй: Привет, слушай, завтра у меня день вообще сумасшедший, боюсь, что не получится. Давай в другой день? Или Серегу попроси.
Первый: Я Серегу уже просил. Он тещу на дачу везет.
Второй: Ну я даже не знаю, может, тебе доставку заказать?
Первый (расстроенно): Ты что, меня за идиота держишь? Я про доставку все понимаю, но это лишние деньги, а главное, весь день на привязи сидеть, в ожидании. Вот же елки-палки, друзья называются, никого ни о чем нельзя попросить!
Второй (виновато): Ну что ты сразу? Ну не получается у меня, ты б хоть раньше позвонил, я бы поменял что-то.
Первый: Ну как Серега отказался, так сразу и позвонил. Ладно, позвоню брату, если с друзьями не получается, то, может, хоть родственники помогут.
Второй (расстроенно и виновато): Ну извини, ну никак!
Первый: Да ладно оправдываться-то. Толку от твоих оправданий…
Очевидно, что тому, кого попросили помочь, не в чем оправдываться. Он действительно не может, и обвинения в том, что он плохой друг – в данном случае абсурдны: он не отказывался помочь, он искал варианты, проблема была не очень серьезная, и т. д. Тем не менее обвинение в том, что он плохой друг, автоматически вызвало чувство вины и соответствующее поведение. Возможно, это переживание скоро растворится, а, может быть, подвигнет его на какие-то действия компенсирующего характера. Например, в следующий раз, когда этот друг его попросит о помощи, он бросит все свои дела и кинется помогать или сразу возьмет на себя его расходы. А может быть, как-то по-другому будет доказывать, что он хороший друг.
В данном случае мы имели дело с явным обвинением, хотя и не очень жестким. Существует достаточно много разновидностей неявных обвинений, которые порождают еще более токсичные виды переживаний, потому что они уже практически полностью отрываются от уровня реальности и действий. Часто эти обвинения начинаются со слов «всегда» или «никогда», или содержат какие-то обобщенные характеристики личности или поведения: плохая мать, непорядочный человек, нечестный поступок и т. п. Эти характеристики, как правило, существуют отдельно от реальности, только в сфере сознания человека и людей. Соединять их с реальностью приходится посредством долгой и нудной конкретизации. Изжить такую обобщенную вину очень сложно, потому что сложно определить, в чем именно состоит неправильное действие, каковы его последствия и кто пострадал.
Описывать отдельно виды неявного обвинения бессмысленно, потому что в этой роли может выступить любое отстраняющее действие с неявным мотивом (игнорирование, бойкот и т. п.) или оценочное высказывание. Главное, чтобы там содержалось негативная оценка действия человека с указанием на незаконность его поведения.
ВВЧ: На нарушении какой нормы было основано обвинение в диалоге «Друзья»? Есть ли различие в понимании этой нормы участниками диалога?
Вольное или невольное «незаконное» влияние на других людей или события
Термин «влияние» пояснений не требует. Он и так понятен в своей абсолютной неопределенности. Более того, если немного подумать, нам становится ясно, что мы постоянно влияем друг на друга и избежать влияния невозможно, это очевидно. Но вслед за признанием факта влияния друг на друга возникает вопрос о последствиях и ответственности за это влияние. И здесь сразу все становится запутанно, неясно и зыбко. Возникают десятки вопросов: За что мы отвечаем? Только ли за осознанные и целенаправленные действия? Или последствия невольных действий тоже является нашей ответственностью? Что такое «невольное действие»? Является ли действительным оправданием вечный возглас «я нечаянно!» и верен ли самый частый ответ «за нечаянно бьют отчаянно»?
Мы не знаем ответов. Но опыт психологического консультирования говорит, что осознание влияния на других людей может вызывать у человека переживание вины, если кто-то другой или он сам считает это влияние незаконным. Речь идет не только о совершенно ясных случаях, когда наши действия портят чью-то работу («смотри, сколько грязи с тебя натекло!») или уменьшают чей-то ресурс («ну вот, а на меня времени не хватило!»). Вина возникает даже тогда, когда влияние не имеет знака или допускает множественное толкование.
Диалог «Подружки»
Девочки, лет по 14.
Первая: Слушай, а давай ты будешь на автобусе ездить, а не на троллейбусе.
Вторая: С какой стати?
Первая: Тебе же все равно, и автобусы, и троллейбусы идут, и ехать тебе всего несколько остановок.
Вторая: Ну и что! На троллейбусе почти все едут, а на автобусе только девчонки из другой группы.
Первая: Ну в том-то и дело, что все! И парни все на тебя пялятся!
Вторая: Но я ж не виновата!
Первая: Ну знаешь ли, ты с ними разговариваешь! Нам с Витькой ехать шесть остановок всего. А тебе четыре! Как ты выходишь, с ним потом разговаривать невозможно – он зависает! И времени не хватает, всего две остановки остается. А если за шесть остановок, может, что-то и получится.
Вторая: Слушай, я с твоим Витькой вообще не разговариваю. Нужен он мне!
Первая: Ты со всеми разговариваешь!
Вторая (примирительно): Ну давай я молчать буду.
Первая: Они все равно на тебя пялиться будут.
Вторая (с отчаяньем): Ну я же не специально! Ну что мне, паранджу надевать что ли?!
Первая: О, маску наденешь, тогда можно и с нами. Скажешь – заболеть боишься[5].
Вторая: Да не буду я никакую маску надевать, что ты придумываешь!
ВВЧ: На какую норму опираются девочки?
Пример выглядит анекдотичным, особенно для взрослого человека. Но такое происходит довольно часто на протяжении всей нашей жизни. Многие могут вспомнить просьбы окружающих – идти последним на экзамен, потому что «после тебя всем занижают». Или одеваться поскромнее, или говорить поменьше, или «не выпячивать свою образованность» и так далее и тому подобное. Случается, что люди сильные и яркие сталкиваются с совершенно реальным одиночеством и чувствуют себя неуместными именно потому, что им вменяют в вину «слишком сильное» влияние на окружающих.
Причем это влияние связано просто с наличием силы, красоты, ума, образованности и т. д. Если к такому влиянию личности добавляется еще и влияние должности, или количество ресурсов, которыми может оперировать этот человека (власть, деньги, авторитет и т. п.), то вопрос об ответственности, а соответственно, о переживании вины становится все более и более острым. Вина в данном случае является индикатором наличия факта влияния и ответственности. Справиться с такими чувствами возможно, только пережив экзистенциальный кризис (existedu.ru) [1] и приняв на себя ответственность за собственные силы, яркость, талант, богатство, опыт и прочие «инструменты влияния». Утешением за трудности и муки может служить то, что принятая ответственность и осознанные силы становятся основанием для законной гордости.