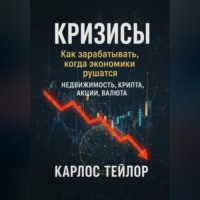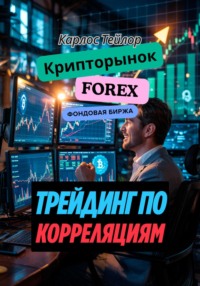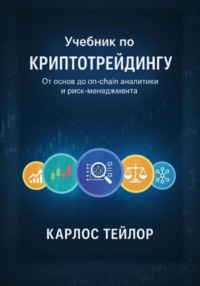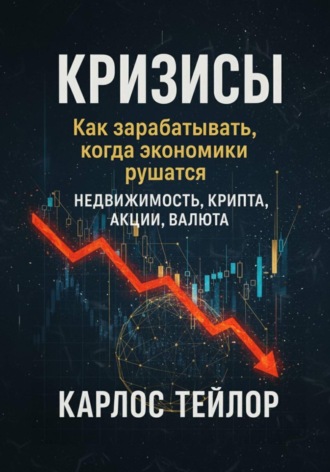
Полная версия
Кризисы. Как зарабатывать, когда экономики рушатся
Нефтяные кризисы семидесятых закончились, но их влияние ощущается до сих пор. Они изменили структуру глобальной экономики, геополитический баланс сил, подходы к энергетической политике. Они показали, что сырьевые рынки могут быть источником как катастроф, так и возможностей. Те, кто понял эти уроки, получили инструменты для навигации в будущих кризисах, потому что история имеет свойство повторяться, пусть и в новых формах.
1.4 Азиатский кризис 1997 года: эффект домино на развивающихся рынках
Летом 1997 года мир наблюдал за тем, как процветающие экономики Юго-Восточной Азии рушились одна за другой, словно карточные домики. То, что начиналось как локальная проблема небольшой страны размером с Францию, всего за несколько месяцев превратилось в глобальную катастрофу. Этот кризис стал уроком для всех, кто мечтал о легких деньгах на развивающихся рынках, и показал, насколько хрупкой может быть экономика, построенная на зыбучих песках дешевых долларов и завышенных ожиданий.
История началась в Таиланде, стране, которую в начале девяностых называли азиатским тигром. Темпы роста тайской экономики превышали 7% в год. Бангкок превращался в современный мегаполис, небоскребы росли как грибы после дождя, а иностранные инвесторы выстраивались в очередь, чтобы вложить деньги в эту историю успеха. Казалось, что процветание будет вечным. В реальности же Таиланд строил свое благополучие на фундаменте из заемных средств, и этот фундамент начал трескаться еще в конце 1996 года.
Тайский бат на протяжении десятилетия был привязан к доллару США по фиксированному курсу примерно двадцать пять батов за доллар. Эта привязка создавала иллюзию стабильности и предсказуемости, что привлекало иностранный капитал. Западные банки и инвестиционные фонды охотно кредитовали тайские компании и банки, которые, в свою очередь, вкладывали эти дешевые доллары в недвижимость и акции. Получалась идеальная схема, пока все шло хорошо. Проблема заключалась в том, что тайская экономика зарабатывала в батах, а долги были в долларах.
Первые трещины стали заметны в феврале 1997 года, когда обанкротилась крупная финансовая компания Somprasong Land, не сумев обслуживать долларовые займы. Затем проблемы начались у Finance One, одной из крупнейших небанковских финансовых организаций страны. К весне стало ясно, что тайский финансовый сектор сидит на пороховой бочке плохих долгов, которые были выданы под залог переоцененной недвижимости. Центральный банк Таиланда пытался поддерживать бат, расходуя валютные резервы на интервенции, но это было похоже на попытку залатать дыру в плотине пальцем.
К началу июля 1997 года у Банка Таиланда закончились резервы для защиты национальной валюты. Второго июля правительство объявило о переходе к плавающему курсу. Это был эвфемизм для катастрофы. За один день бат рухнул на 15%, а к концу года потерял больше половины своей стоимости. Для тайских компаний, которые набрали долларовых долгов, это означало, что их обязательства удвоились в одночасье. Начались массовые банкротства.
То, что произошло дальше, экономисты называют эффектом заражения. Инвесторы, обожженные потерями в Таиланде, начали массово выводить деньги из других азиатских стран. Логика была простой и жестокой: если проблемы есть в Таиланде, они могут быть и в Малайзии, Индонезии, Филиппинах, Корее. Никто не хотел быть последним, кто покинет тонущий корабль. К августу кризис перекинулся на Малайзию и Индонезию, к октябрю достиг Гонконга и Южной Кореи.
Индонезия пострадала особенно сильно. Рупия потеряла 80% стоимости за несколько месяцев. Инфляция взлетела до 70% годовых. Полки магазинов опустели, цены на продукты утроились, начались продовольственные бунты. Режим Сухарто, правившего страной тридцать два года, не пережил экономической катастрофы. В мае 1998 года диктатор ушел в отставку под давлением массовых протестов.
Южная Корея, одиннадцатая экономика мира, столкнулась с банковским кризисом беспрецедентного масштаба. Крупнейшие чеболи, семейные конгломераты вроде Daewoo и Kia, обанкротились, не сумев обслуживать долларовые кредиты после обвала воны. К концу ноября 1997 года Корея оказалась на грани дефолта по внешним обязательствам. Валютные резервы страны составляли всего несколько миллиардов долларов, а внешний долг превышал сто пятьдесят миллиардов. Это был момент, когда одна из самых успешных экономических историй послевоенной Азии оказалась в шаге от краха.
Международный валютный фонд вмешался с пакетами помощи, которые в совокупности превысили сто миллиардов долларов. Таиланду выделили семнадцать миллиардов, Индонезии сорок три, Южной Корее пятьдесят семь. Звучит внушительно, но на практике эти деньги пришли с жесткими условиями, которые скорее усугубили кризис, чем смягчили его последствия. МВФ требовал сокращения государственных расходов, повышения процентных ставок и закрытия проблемных банков. Идея была в том, чтобы восстановить доверие инвесторов через демонстрацию финансовой дисциплины.
Результат оказался обратным. Повышение ставок задушило и без того умирающую экономику. Компании массово банкротились, безработица взлетела до рекордных уровней. В Индонезии безработица выросла с 4 до 12% за год. В Таиланде закрылись тысячи предприятий. Требование закрыть слабые банки вызвало панику среди вкладчиков, которые бросились забирать деньги из всех банков подряд, усугубляя банковскую панику. Вместо того чтобы стабилизировать ситуацию, программы МВФ ускорили падение.
Критики называли действия фонда экономическим садизмом. Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц, работавший в то время главным экономистом Всемирного банка, публично критиковал МВФ за неадекватность рецептов. Он указывал, что азиатский кризис был не результатом расточительной фискальной политики, как в Латинской Америке восьмидесятых, а следствием паники на частных рынках капитала. Правительства этих стран имели профицит бюджета, низкую инфляцию, высокие нормы сбережений. Проблема была в частном секторе, который залез в долги. МВФ же применял стандартные рецепты, которые были разработаны для совершенно других обстоятельств.
Еще один провал МВФ заключался в непонимании политической экономии кризиса. Фонд настаивал на структурных реформах, включая либерализацию рынков и сокращение роли государства, в самый неподходящий момент. Когда экономика горит, а люди теряют работу и сбережения, требовать радикальных реформ означает подливать масла в огонь социального недовольства. В Индонезии это привело к свержению режима. В Южной Корее программа МВФ стала символом национального унижения.
Интересно, что Малайзия, единственная из пострадавших стран, которая отказалась от помощи МВФ, справилась с кризисом не хуже остальных. Премьер-министр Махатхир Мохамад ввел контроль за движением капитала, фиксировал курс ринггита к доллару и провел программу стимулирования экономики. Западные экономисты предрекали катастрофу, но Малайзия вышла из кризиса быстрее многих соседей. Это ставило под вопрос всю догматику МВФ о необходимости свободного движения капитала.
На фоне этого хаоса активизировались валютные спекулянты, среди которых самой яркой фигурой был Джордж Сорос. К 1997 году Сорос уже имел репутацию человека, сломавшего Банк Англии. В сентябре 1992 года его фонд Quantum заработал миллиард долларов за один день, поставив на девальвацию фунта стерлингов. Азиатский кризис стал для Сороса и подобных ему трейдеров новой охотничьей территорией.
Премьер-министр Малайзии Махатхир публично обвинил Сороса в организации атаки на азиатские валюты ради спекулятивной прибыли. Он называл валютных спекулянтов паразитами, которые разрушают экономики развивающихся стран. Сорос отвечал, что он не создает кризисы, а лишь использует фундаментальные дисбалансы, которые уже существуют. Если валюта переоценена, а экономика имеет структурные проблемы, кто-то рано или поздно воспользуется этим.
С технической точки зрения Сорос был прав. Тайский бат действительно был переоценен, учитывая растущий дефицит текущего счета и пузырь на рынке недвижимости. Привязка к доллару делала валюту уязвимой для атаки, особенно когда у центрального банка кончались резервы для защиты. Хедж-фонды просто делали то, что делают хедж-фонды: находили слабости и зарабатывали на них. Проблема в том, что их действия ускоряли кризис и делали его более разрушительным.
Механизм заработка был относительно прост. Фонды занимали баты у тайских банков под низкий процент, конвертировали их в доллары и ждали девальвации. Когда бат рухнул, они покупали дешевые баты, возвращали кредиты и оставляли себе разницу в виде прибыли. Это классическая короткая продажа валюты. В масштабах миллиардов долларов такие операции создавали дополнительное давление на бат, превращая предсказание в самосбывающееся пророчество.
После азиатского кризиса Quantum Fund Сороса потерял значительную часть прибыли из-за ошибок в других регионах, но это не меняет факта: валютная спекуляция в Азии принесла огромные деньги тем, кто правильно выбрал момент. Другие хедж-фонды, чьи имена менее известны широкой публике, заработали миллиарды на обвале азиатских валют. Tiger Management, Long-Term Capital Management, Moore Capital Management – все они участвовали в этой игре.
Что касается обычных инвесторов, то большинство потеряло деньги. Западные пенсионные фонды и институциональные инвесторы, которые влили миллиарды в азиатские рынки в начале девяностых, понесли огромные убытки. Индекс MSCI Asia Pacific Index упал на 40% за год. Те, кто покупал акции тайских или корейских компаний в начале 1997 года, к концу года сидели на убытках в 70 или 80%.
Однако были и те, кто заработал. Контрариантные инвесторы, которые имели смелость покупать активы на самом дне кризиса в конце 1997 – начале 1998 года, получили фантастическую доходность. Южнокорейский рынок акций вырос почти в пять раз с минимумов 1998 года до 2000 года. Тайский рынок удвоился. Те, кто купил индонезийские облигации, когда доходность превышала 30%, заработали состояния, когда рынок стабилизировался.
Марк Мобиус, легенда инвестирования в развивающиеся рынки, в 1998 году активно скупал азиатские акции, когда все остальные бежали из региона. Он понимал, что паника создает возможности. Компании с хорошими фундаментальными показателями торговались по абсурдно низким ценам просто потому, что никто не хотел иметь ничего общего с Азией. Это был классический пример, когда страх толпы создает возможности для умных денег.
Урок для инвесторов в развивающиеся рынки был жестоким, но ценным. Во-первых, высокие темпы роста не гарантируют отсутствие кризисов. Азиатские тигры росли по 7-10% в год, но это не спасло их от обвала, когда обнажились структурные проблемы. Рост, построенный на заемных средствах, особенно в иностранной валюте, чрезвычайно хрупок.
Во-вторых, фиксированные валютные курсы в развивающихся странах создают иллюзию стабильности, которая рано или поздно разрушается. Привязка к доллару работает, пока центральный банк имеет достаточно резервов для защиты курса и пока экономика не накапливает критических дисбалансов. Когда резервы заканчиваются, обрушение валюты происходит быстро и жестоко.
В-третьих, эффект заражения между развивающимися рынками – это реальность. Кризис в одной небольшой стране может спровоцировать панику во всем регионе, даже если фундаментальные условия других стран отличаются. Инвесторы не тратят время на детальный анализ каждой экономики, когда начинается паника. Они просто выводят деньги из всех рынков, которые кажутся похожими. Таиланд и Южная Корея имели разные проблемы, но для международного капитала они оказались в одной корзине "азиатских рисков".
В-четвертых, международные финансовые институты не всегда являются спасителями. МВФ может усугубить кризис, применяя неадекватные рецепты. Рассчитывать на то, что кто-то придет и спасет ситуацию, наивно. Инвесторам нужно самостоятельно оценивать риски и не полагаться на внешнюю помощь.
В-пятых, валютный риск в развивающихся странах может уничтожить всю доходность от инвестиций. Даже если компания, в которую вы вложились, показывает хорошие результаты, обвал национальной валюты может свести на нет всю прибыль. Хеджирование валютного риска критически важно при инвестировании в эмержинги, но оно стоит денег и съедает доходность.
Кризис показал и то, что ликвидность на развивающихся рынках исчезает мгновенно, когда начинается паника. Инвесторы, которые думали, что смогут быстро продать активы при первых признаках проблем, обнаружили, что покупателей нет. Спреды между ценой покупки и продажи расширялись до абсурдных уровней. Некоторые активы вообще невозможно было продать по любой цене. Это называется риском ликвидности, и он особенно высок в эмержинг-маркетах.
С другой стороны, кризис продемонстрировал поразительную устойчивость азиатских экономик в долгосрочной перспективе. К началу 2000-х большинство стран региона не только восстановилось, но и вышло на траекторию устойчивого роста. Они извлекли уроки из кризиса: накопили значительные валютные резервы, перешли к плавающим курсам, укрепили банковскую систему, сократили зависимость от краткосрочных иностранных займов.
Южная Корея провела болезненные, но необходимые реформы чеболей, заставив их сократить долговую нагрузку и повысить прозрачность. Samsung, Hyundai, LG вышли из кризиса более сильными и конкурентоспособными. К середине 2000-х Корея стала одной из самых инновационных экономик мира. Таиланд диверсифицировал экономику, снизив зависимость от недвижимости и развивая туризм и экспорт. Индонезия пережила политическую трансформацию, став более демократичной и стабильной.
Для инвесторов, которые сохранили нервы и продолжали вкладываться в Азию после кризиса, награда оказалась щедрой. Следующее десятилетие стало золотым временем для азиатских рынков. Китай вступил в ВТО в 2001 году и превратился в фабрику мира, подняв за собой всю региональную экономику. Индия начала технологический бум. Вьетнам открылся для иностранных инвестиций. Те, кто понял, что кризис 1997 года был не концом истории, а болезненной корректировкой на пути роста, заработали огромные деньги.
Азиатский кризис также изменил глобальную архитектуру управления рисками. Центральные банки развивающихся стран начали накапливать валютные резервы беспрецедентных размеров, чтобы никогда больше не оказаться в ситуации, когда им приходится просить помощи у МВФ на унизительных условиях. К середине 2000-х Китай, Южная Корея, Тайвань, Индия имели резервы, измеряемые сотнями миллиардов долларов. Это стало подушкой безопасности, которая помогла им пережить кризис 2008 года с минимальными потерями.
Другим следствием стал рост регионального сотрудничества. Страны АСЕАН создали механизмы валютных свопов, чтобы помогать друг другу в случае новых кризисов, не прибегая к МВФ. Чиангмайская инициатива, запущенная в 2000 году, позволила центральным банкам азиатских стран обмениваться валютами для поддержки платежного баланса. Это было признанием того, что полагаться исключительно на западные институты опасно.
Кризис 1997 года стал предвестником глобализации финансовых рынков и связанных с ней рисков. Он показал, насколько тесно связаны экономики разных стран и как быстро проблема в одном регионе может распространиться на весь мир. Всего через год, летом 1998 года, кризис перекинулся на Россию, которая объявила дефолт по внутреннему долгу. Затем пострадала Бразилия. Long-Term Capital Management, хедж-фонд, управляемый нобелевскими лауреатами, обанкротился, потеряв четыре миллиарда долларов на ставках по глобальным рынкам. Федеральная резервная система США была вынуждена организовать спасение фонда, опасаясь системного коллапса.
Для обычного инвестора история азиатского кризиса содержит несколько практических выводов. Первый: диверсификация по географии критически важна, но она не защищает от системных кризисов. Когда начинается паника, корреляция между активами стремится к единице, и все падает одновременно. Единственное, что действительно защищает, это ликвидность и способность пережить просадку без необходимости продавать на дне.
Второй вывод: долговая нагрузка в иностранной валюте смертельно опасна как для компаний, так и для целых стран. Если вы инвестируете в развивающиеся рынки, обращайте внимание на то, сколько внешнего долга имеет страна и какова ее способность обслуживать этот долг в случае девальвации национальной валюты. Страны с большим внешним долгом, выраженным в долларах, и ограниченными валютными резервами находятся в зоне риска.
Третий: момент входа на развивающиеся рынки определяет все. Покупать на пике эйфории, когда все говорят о чуде азиатских тигров, означает обрекать себя на потери. Покупать в момент максимального страха, когда все бегут из региона, требует нервов, но именно это приносит фантастическую доходность. Проблема в том, что отличить временную панику от фундаментального краха очень сложно в режиме реального времени.
Четвертый вывод касается роли плеча. Многие инвесторы в Азии использовали заемные средства, чтобы увеличить доходность. Когда рынок растет, это кажется блестящей идеей. Когда рынок падает на 50%, плечо уничтожает капитал полностью. Кредитное плечо на развивающихся рынках особенно опасно из-за высокой волатильности. То, что работает на стабильных западных рынках, может привести к катастрофе в эмержингах.
Наконец, кризис подтвердил старую истину: рынки иррациональны дольше, чем вы можете оставаться платежеспособным. Даже если ваш анализ правильный и вы понимаете, что паника неоправданна, это не поможет, если у вас нет ресурсов пережить период, когда рынок ведет себя иррационально. Джон Мейнард Кейнс, который сам был успешным инвестором, говорил, что рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы можете оставаться платежеспособным. Азиатский кризис – идеальная иллюстрация этого принципа.
Двадцать пять лет спустя азиатский кризис выглядит как важный, но преодоленный эпизод в истории региона. Страны, пережившие катастрофу, стали сильнее и умнее. Они больше не полагаются слепо на иностранный капитал, не привязывают валюты жестко к доллару, не позволяют накапливать критические дисбалансы. Но уроки кризиса остаются актуальными для любого инвестора, который работает с развивающимися рынками сегодня.
Турция, Аргентина, некоторые африканские страны демонстрируют те же симптомы, что и азиатские тигры в середине девяностых: быстрый рост на заемных средствах, большой внешний долг, переоцененная валюта, хрупкая банковская система. История не повторяется буквально, но она рифмуется. Инвестор, который знает, чем закончилась история в Таиланде в 1997 году, будет более осторожен, вкладываясь в похожие истории сегодня.
Развивающиеся рынки предлагают более высокую доходность, чем развитые, но за эту доходность приходится платить повышенными рисками. Кризисы в эмержингах случаются чаще и проходят жестче. Валюты обваливаются на 50% за несколько месяцев. Правительства объявляют дефолты. Рынки акций падают на 70%. Это реальность, с которой нужно считаться.
Однако те, кто понимает эти риски и умеет ими управлять, могут извлечь огромную выгоду. Каждый кризис создает возможности для тех, у кого есть капитал, смелость и терпение покупать активы по бросовым ценам. Джордж Сорос заработал на обвале валют, но другие инвесторы заработали на восстановлении экономик. Оба подхода могут быть прибыльными, если вы понимаете, что делаете, и готовы принять риски.
Азиатский кризис напоминает нам, что в мире финансов нет гарантий и безопасных ставок. Даже самые быстрорастущие экономики могут рухнуть. Даже самые уважаемые институты, такие как МВФ, могут ошибаться. Даже самые умные стратегии могут привести к потерям, если рынок поворачивается против вас. Единственная защита – это знание истории, понимание механизмов кризисов, дисциплина и способность сохранять холодную голову, когда все вокруг паникуют.
Следующий кризис на развивающихся рынках неизбежен. Мы не знаем, когда он случится и какая страна станет его эпицентром, но он обязательно произойдет. Те, кто изучил уроки 1997 года, будут готовы использовать возможности, которые он создаст. Остальные повторят ошибки тех, кто потерял деньги в Азии четверть века назад. История экономических кризисов безжалостна к тем, кто ее игнорирует, и щедра к тем, кто ее понимает.
Глава 2. Кризис 2008 года: великая рецессия и её последствия
2.1 Ипотечный пузырь и крах Lehman Brothers
Летним утром 2005 года риелтор Стивен Морган показывал дом в пригороде Лас-Вегаса паре, которая несколько месяцев назад иммигрировала из Мексики. Мануэль работал садовником, зарабатывая 20 000 долларов в год, его жена Мария подрабатывала уборщицей. Дом стоил 380 000 долларов, почти в двадцать раз больше их годового дохода. По всем разумным стандартам они не могли себе это позволить. Но Морган улыбался и говорил, что всё будет в порядке. Банк одобрит кредит, не нужны документы о доходах, первоначальный взнос можно взять вторым кредитом, а ежемесячный платёж в первые два года будет смешным. Главное: дом растёт в цене по 15% в год, через год можно будет рефинансироваться и снизить платежи. Мануэль и Мария подписали бумаги, не понимая ни слова. Они только что купили билет на американские горки, которые через три года сбросят их в финансовую пропасть, а заодно обрушат мировую экономику.
История ипотечного пузыря началась с благих намерений, как обычно бывает с катастрофами. В девяностых годах американские политики решили, что владение собственным жильём должно стать доступным каждому. Это была красивая идея, воплощение американской мечты. Правительство начало давить на банки, требуя выдавать кредиты людям с низкими доходами и плохой кредитной историей. Два гигантских ипотечных агентства, Fannie Mae и Freddie Mac, получили мандат скупать такие рискованные кредиты у банков, фактически гарантируя, что банки не понесут убытков. Логика была проста: если банк может сразу продать кредит государственному агентству, зачем ему переживать о том, вернёт ли заёмщик деньги?
Первые годы всё работало отлично. Процентные ставки после краха доткомов в начале 2000-х были на исторических минимумах. Федеральная резервная система держала базовую ставку на уровне одного процента, практически даром. Дешёвые деньги хлынули в экономику, и значительная часть потекла в недвижимость. Спрос на жильё рос, цены ползли вверх. Люди покупали дома не для того, чтобы жить в них, а как инвестиции. Появились флипперы, покупавшие недвижимость, делавшие косметический ремонт и продававшие через полгода с прибылью в 30-40%. На вечеринках обсуждали не фондовый рынок, а сколько заработали соседи на перепродаже домов.
Банки быстро поняли, что ипотека превратилась в золотую жилу. Традиционно банкиры были консервативными людьми, тщательно проверявшими платёжеспособность заёмщиков. Но теперь стимулы изменились. Ипотечный брокер получал комиссию за каждый выданный кредит. Его не волновало, вернёт ли заёмщик деньги через пять лет, главное было закрыть сделку сегодня. Банк, выдававший кредит, продавал его в течение недель инвестиционному банку. Инвестиционный банк упаковывал сотни таких кредитов в сложный финансовый инструмент и продавал его инвесторам по всему миру. Риск дефолта перекладывался с одного на другого, как горячая картошка, и в итоге оказывался где-то в немецком пенсионном фонде или норвежском муниципалитете.
Эта цепочка создала систему, где никто не нёс ответственности за последствия. Брокер хотел максимум сделок. Банк хотел максимум кредитов для продажи. Инвестиционный банк хотел максимум продуктов для упаковки. Рейтинговое агентство, которое оценивало эти продукты, получало плату от того же инвестиционного банка и выставляло высшие рейтинги почти всему подряд. Инвесторы на другом конце цепи верили рейтингам и покупали, не задавая лишних вопросов. Все зарабатывали, все были счастливы, пока музыка играла.
Субстандартное кредитование стало нормой к середине 2000-х. Термин субстандартный означал кредиты людям, которые по традиционным меркам не должны были их получить: с низкими доходами, плохой кредитной историей, без подтверждения занятости. Появились кредиты NINJA: no income, no job, no assets, нет дохода, нет работы, нет активов. Заёмщик просто называл цифру своего дохода, и банк записывал её в документы без проверки. Эти кредиты так и называли: кредиты лжецов, но никто не смущался.
Особенно циничными были структуры самих кредитов. Adjustable-rate mortgages, ипотеки с плавающей ставкой, предлагали крайне низкий платёж в первые два года, а потом ставка резко взлетала. Банкиры убеждали заёмщиков, что к тому времени дом вырастет в цене, и можно будет рефинансироваться на лучших условиях. Option ARM давал заёмщику выбор: платить только проценты или даже меньше, при этом основной долг не только не уменьшался, но и рос. Человек платил по ипотеке два года, а задолженность банку увеличивалась. Эти продукты были финансовыми бомбами замедленного действия, но их продавали миллионами.