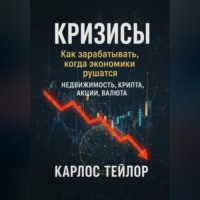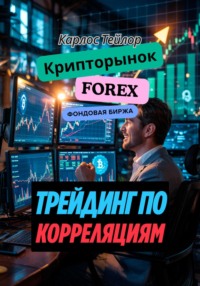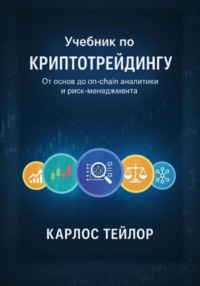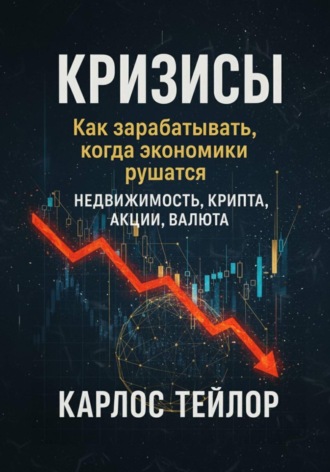
Полная версия
Кризисы. Как зарабатывать, когда экономики рушатся
Механизм надувания пузыря был прост и порочен. Рост цен на жильё позволял заёмщикам брать новые кредиты под залог возросшей стоимости дома. Люди рефинансировались, получали наличные и тратили их на потребление. Этот поток денег поддерживал экономический рост, розничные продажи росли, все чувствовали себя богаче. Но богатство было иллюзией, построенной на растущих ценах активов, которые росли только потому, что в них вливалось всё больше заёмных денег.
К 2006 году американский рынок жилья достиг абсурдных уровней. В некоторых городах, таких как Майами или Лас-Вегас, цены выросли на 300% за пять лет. Соотношение цены дома к годовому доходу семьи достигло девяти, при исторической норме в три-четыре. Дома в пригородах, которые стоили $200 000 в 2001 году, продавались за $60 000. Строительные компании возводили целые посёлки в пустыне, рассчитывая на бесконечный спрос. Все знали, что это безумие, но никто не хотел выходить из игры, пока она приносила деньги.
Настоящая магия, превратившая американскую ипотечную проблему в глобальную катастрофу, заключалась в финансовых инструментах с устрашающими аббревиатурами: CDO, CDS, MBS. Эти три буквы стали синонимом финансового оружия массового поражения, как их назвал Уоррен Баффетт ещё в 2003 году. Но мало кто слушал оракула из Омахи, когда деньги текли рекой.
Mortgage-backed securities, ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, были относительно простой концепцией. Банк собирал тысячу ипотечных кредитов в один пул и продавал доли в этом пуле инвесторам. Инвестор получал часть ежемесячных платежей заёмщиков. Идея разумная: диверсификация снижает риск. Даже если несколько заёмщиков не платят, остальные платят, и инвестор получает свой доход. Проблема началась, когда в пулы стали включать всё более рискованные кредиты, но при этом рейтинговые агентства продолжали присваивать им высокие рейтинги.
Инвестиционные банки не остановились на MBS. Они изобрели collateralized debt obligations, обеспеченные долговые обязательства. CDO был ещё сложнее: брали куски разных MBS, смешивали их вместе, делили на транши по уровню риска. Старший транш получал выплаты первым и считался безопасным, младший транш получал деньги последним и нёс все риски дефолтов. Гениальность схемы была в том, что даже если в пул входили плохие ипотеки, старший транш получал рейтинг AAA, как у казначейских облигаций США. Банки превращали мусор в золото с помощью математических моделей и печатей рейтинговых агентств.
Затем появились CDO в квадрате: synthetic CDO, синтетические обязательства. Эти инструменты даже не содержали реальных ипотек, они были просто ставками на то, дефолтнут ли другие CDO. Финансовая система превратилась в гигантское казино, где размер ставок многократно превышал размер реальной экономики, на которой они базировались. По оценкам, к 2007 году номинальная стоимость всех CDO и их производных превышала размер мирового ВВП.
Credit default swaps, свопы кредитного дефолта, добавили последний элемент в эту токсичную смесь. CDS был по сути страховкой от дефолта. Инвестор, владевший CDO, мог купить CDS у страховой компании или банка. Если CDO дефолтнул, продавец CDS выплачивал страховку. Звучит разумно, но возникли две проблемы. Во-первых, купить CDS мог кто угодно, даже тот, кто не владел базовым активом. Это как застраховать дом соседа и ждать, когда он загорится. Во-вторых, рынок CDS был нерегулируемым, никто не знал, кто кому и сколько должен.
Компания AIG, крупнейший страховщик мира, продала CDS на триллионы долларов, получая премии и не откладывая резервов на случай выплат. Их модели показывали, что вероятность массовых дефолтов ничтожна. Руководство AIG считало, что просто собирает дармовые деньги. Когда ипотечный рынок рухнул, AIG обнаружила, что должна выплатить десятки миллиардов долларов, которых у неё не было. Крупнейший страховщик мира оказался банкротом за несколько месяцев.
Летом 2007 года появились первые трещины. Два хедж-фонда Bear Stearns, специализировавшиеся на субстандартной ипотеке, обанкротились. Цены на жильё, росшие без остановки шесть лет, начали снижаться. Заёмщики с плавающими ставками обнаружили, что их платежи удвоились или утроились. Рефинансироваться уже не получалось, потому что дом теперь стоил меньше, чем долг. Количество дефолтов начало расти. Инвесторы, владевшие MBS и CDO, нервничали, но большинство экспертов успокаивали: проблемы локальные, рынок справится.
Осенью 2007 года Федеральная резервная система начала снижать ставки, пытаясь поддержать экономику. Но механизм был запущен, и остановить его было невозможно. Дефолты росли лавинообразно. Люди просто отдавали ключи от домов банкам и уходили. Зачем платить 300 000 за дом, который теперь стоит 200 000? Банки оказывались владельцами миллионов домов, которые некому продать. Цены падали дальше, запуская новую волну дефолтов. Классическая дефляционная спираль в действии.
Март 2008 года принёс первую жертву среди крупных игроков. Bear Stearns, один из пяти крупнейших инвестиционных банков Уолл-стрит, восьмидесятипятилетний институт, рухнул за выходные. В пятницу акции торговались по тридцать долларов, в понедельник JP Morgan купил банк за два доллара за акцию при содействии Федрезерва. Это был шок. Bear Stearns казался непотопляемым, но когда клиенты и контрагенты потеряли доверие, банк исчез за дни. Уолл-стрит нервничала, но многие думали, что худшее позади.
Лето 2008 года было затишьем перед бурей. Цены на нефть достигли ста сорока семи долларов за баррель, добавляя инфляционного давления. Экономика скатывалась в рецессию, но финансовая система ещё держалась. Lehman Brothers отчитался о прибыли во втором квартале, хотя все знали, что в портфеле банка сидят миллиарды токсичных активов. Руководство Lehman искало покупателя или партнёра, но переговоры шли вяло. Никто не хотел брать на себя риски умирающего банка.
Пятнадцатое сентября 2008 года мир проснулся с новостью, которая изменила всё: Lehman Brothers объявил о банкротстве. 660 миллиардов долларов активов, 25 000 сотрудников, 158 лет истории – всё испарилось за ночь. Это было крупнейшее банкротство в истории США, но дело было не в размере, а в последствиях. Lehman не был изолированным игроком, он был узлом в глобальной финансовой сети, связанным тысячами контрактов с другими банками, фондами, компаниями по всему миру.
Крах Lehman запустил системный кризис, какого мир не видел со времён Великой депрессии. Рынок межбанковского кредитования замёр мгновенно. Банки перестали доверять друг другу, никто не знал, у кого в портфеле сидят ядовитые активы. Ставки по межбанковским кредитам взлетели до небес. Компании, зависевшие от краткосрочных кредитов для оплаты зарплат и поставок, оказались без финансирования. Реальная экономика начала останавливаться.
Шестнадцатого сентября правительство США было вынуждено национализировать AIG, влив восемьдесят пять миллиардов долларов, чтобы не допустить банкротства. На следующий день Reserve Primary Fund, крупнейший фонд денежного рынка, объявил, что стоимость его акций упала ниже доллара из-за вложений в коммерческие бумаги Lehman. Это вызвало панику: фонды денежного рынка считались абсолютно безопасными, эквивалентом наличных. Началось массовое изъятие средств, которое могло обрушить всю индустрию.
Федеральная резервная система и Казначейство США работали круглосуточно, пытаясь предотвратить полный коллапс финансовой системы. За несколько недель они влили сотни миллиардов в банки, гарантировали депозиты, выкупили токсичные активы. Конгресс принял пакет спасения TARP на семьсот миллиардов долларов. Но паника на рынках только усиливалась. К октябрю индекс S&P 500 упал на 40% от максимумов года. Триллионы долларов капитализации испарились.
Крах распространился по миру с пугающей скоростью. Европейские банки, активно инвестировавшие в американские MBS, понесли огромные убытки. Британский банк Northern Rock был национализирован после первой со времён викторианской эпохи банковской паники в Великобритании. Исландия фактически обанкротилась, её три крупнейших банка рухнули одновременно, а валюта потеряла половину стоимости. В России фондовый рынок упал на 70% за три месяца. Китай, казавшийся изолированным от западных проблем, увидел резкое замедление экспорта и роста.
К декабрю 2008 года мировая экономика находилась в свободном падении. Американский ВВП сжимался темпом 80% в год. Безработица росла на полмиллиона человек ежемесячно. Автопроизводители General Motors и Chrysler стояли на грани банкротства. Розничные продажи рухнули на 20%. Впервые со времён депрессии заговорили о возможности полного краха капиталистической системы.
Но в этом хаосе были те, кто не просто выжил, а заработал состояния. Самым известным стал Майкл Бьюрри, управляющий небольшого хедж-фонда Scion Capital. Бьюрри был необычным персонажем для Уолл-стрит: врач по образованию, потерявший глаз в детстве, с лёгкой формой синдрома Аспергера, который делал его одержимым анализом данных. С 2005 года он начал изучать субстандартную ипотеку, читая проспекты отдельных кредитов в составе MBS.
То, что обнаружил Бьюрри, ужаснуло его. Пулы ипотек содержали кредиты, по которым заёмщики заведомо не смогут платить. Люди без дохода покупали дома за полмиллиона. Ипотеки с плавающей ставкой должны были ресетнуться в 2007-2008 годах, многократно увеличив платежи. Дефолты были неизбежны. Но рынок оценивал эти MBS так, будто они безопасны как казначейские облигации. Бьюрри понял, что нашёл величайшую инвестиционную возможность своей жизни.
Проблема была в том, что невозможно зашортить ипотечный кредит напрямую. Бьюрри обратился в инвестиционные банки с предложением: создайте для меня инструмент, который позволит ставить против ипотеки. Банки сначала не поняли, но потом согласились. Они создали специальные CDS на корзины MBS. Бьюрри платил небольшую регулярную премию, как страховку, а если ипотеки дефолтнут, банк выплатит ему кратную сумму. Банки считали, что нашли идиота, готового платить им деньги за ненужную страховку.
С 2005 по 2007 год Бьюрри вкладывал всё больше денег фонда в эти ставки против ипотеки. Его инвесторы не понимали стратегии и требовали вернуть деньги. Но Бьюрри был уверен в своём анализе и заблокировал выходы из фонда. Когда ипотечный рынок начал рушиться в 2007 году, его ставки начали приносить прибыль. К концу 2008 года фонд заработал для инвесторов 700%. Личная доля Бьюрри составила сто миллионов долларов.
Но самым крупным победителем кризиса стал Джон Полсон, управляющий хедж-фондом Paulson & Co. Полсон пришёл к тем же выводам, что и Бьюрри, но масштаб его ставок был на порядок больше. Он создал специальный фонд, посвящённый исключительно шортингу ипотеки. В 2007 году этот фонд заработал пятнадцать миллиардов долларов, больше, чем любой хедж-фонд в истории за один год. Личный доход Полсона составил четыре миллиарда. Он стал легендой, человеком, который предсказал кризис и заработал на нём больше всех.
Были и другие контрариане. Стив Айсман, управляющий портфелем в FrontPoint Partners, тоже шортил субстандартную ипотеку с 2006 года. Его анализ был прост: он ездил по пригородам, разговаривал со стриптизёршами, которые покупали пять домов на ипотеку, с риелторами, откровенно врущими о доходах клиентов. Он понял, что система прогнила насквозь, и поставил против неё. Джефф Грин из Hayman Capital увидел, что те же проблемы разрастаются в коммерческой недвижимости, и заработал на её крахе.
Интересно, что большинство этих контрарианов не были инсайдерами Уолл-стрит. Бьюрри управлял небольшим фондом из Калифорнии. Полсон специализировался на слияниях и поглощениях, а не на кредитных рынках. Они увидели очевидное, потому что смотрели на данные без предвзятости. Инсайдеры же не могли или не хотели видеть проблемы, потому что вся их карьера и бонусы зависели от продолжения пузыря.
Контрарианское мышление требует не только аналитических способностей, но и железных нервов. Бьюрри держал свои позиции два года, пока они приносили убытки. Его инвесторы требовали голову, рынок смеялся над ним. Нужна была огромная уверенность в своём анализе, чтобы не закрыть позиции раньше времени. Многие трейдеры, которые тоже видели проблемы, вышли слишком рано или не выдержали давления и закрыли ставки до того, как рынок рухнул.
Важный урок истории Бьюрри и Полсона: правота недостаточна, нужен ещё и тайминг. Можно быть правым в анализе, но если рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы можете оставаться платёжеспособным, вы всё равно проиграете. Эти инвесторы не только правильно поняли ситуацию, но и нашли инструменты, которые позволили держать позиции достаточно долго. Обычные шорты акций потребовали бы огромных маржинальных депозитов, CDS на ипотеку позволяли держать ставку за небольшую премию.
После краха Lehman контрарианы не ушли с пляжа. Они начали покупать активы, которые рынок продавал в панике. Когда банковские акции упали на 90%, когда корпоративные облигации торговались по двадцать центов на доллар, когда даже качественная недвижимость продавалась за бесценок, умные деньги начали входить. Дэвид Теппер из Appaloosa Management купил миллиарды долларов привилегированных акций банков, которые рынок считал мусором. Он заработал семь миллиардов за год, превратив каждый вложенный доллар в три.
Уоррен Баффетт, который предупреждал о деривативах как оружии массового поражения, не упустил возможности. В разгар паники осени 2008 года он инвестировал пять миллиардов в Goldman Sachs и три миллиарда в General Electric, получив привилегированные акции с дивидендами 10% годовых и опционы на обычные акции. Эти инвестиции принесли Berkshire Hathaway прибыль в несколько миллиардов. Баффетт следовал своему правилу: будь жадным, когда другие боятся.
Розничные инвесторы, которые сохранили холодную голову, тоже получили шанс всей жизни. Те, кто купил индексный фонд на S&P 500 в марте 2009 года, когда индекс опустился до 666 пунктов, увеличили свои деньги в шесть раз к 2020 году. Акции Apple, упавшие до 12 долларов с учётом сплитов, выросли до 180. Amazon с 30 до 3 тысяч. Bank of America с 3 долларов до 40. Это были не обанкротившиеся компании, а лидеры своих отраслей, временно подешевевшие в панике.
Кризис 2008 года преподал множество уроков, но главный из них: системы, построенные на чрезмерных долгах и сложных финансовых инструментах, хрупки. Когда все звенья цепи зависят друг от друга, разрыв одного звена рушит всё. Lehman Brothers был этим звеном, и его банкротство показало, насколько взаимосвязана финансовая система. Банки держали активы друг друга, страховали друг друга, кредитовали друг друга. Когда одна домино упала, остальные последовали.
Второй урок: рейтинговые агентства не заслуживают слепого доверия. Moody's, S&P, Fitch присваивали высшие рейтинги токсичным CDO, получая за это плату от тех же банков, которые эти CDO создавали. Конфликт интересов был очевиден, но система работала так десятилетиями. Инвесторы, полагавшиеся на рейтинги, не проводили собственного анализа и потеряли миллиарды. Бьюрри и другие контрариане не доверяли рейтингам, они читали реальные данные.
Третий урок касается регулирования. Дерегуляция финансовой индустрии в девяностых и нулевых, отмена закона Гласса-Стигалла, который разделял коммерческие и инвестиционные банки, создали условия для безудержного роста рисков. Банки стали слишком большими, чтобы им позволили упасть, и это породило моральный риск. Руководство знало, что в случае проблем правительство придёт на помощь, поэтому не боялось брать чрезмерные риски.
Четвёртый урок: центральные банки готовы сделать всё для спасения системы. Федрезерв снизил ставки до нуля, влил триллионы ликвидности, купил токсичные активы. Европейский центральный банк, Банк Англии, центробанки по всему миру действовали синхронно. Они предотвратили повторение Великой депрессии, но ценой создания новых дисбалансов. Печатание денег в таких масштабах ранее казалось немыслимым, но после 2008 года стало нормой.
Последствия кризиса ощущаются до сих пор. Десять лет нулевых и отрицательных процентных ставок исказили рынки капитала. Огромный рост долга, как государственного, так и корпоративного. Инфляция активов при стагнации реальных зарплат. Рост неравенства, потому что владельцы активов выиграли от действий центробанков, а обычные работники нет. Поколение, вступившее во взрослую жизнь во время кризиса, до сих пор несёт психологические шрамы и недоверие к финансовой системе.
Но для инвесторов, которые учатся на истории, кризис 2008 года: бесценный учебник. Он показал, как формируются пузыри, как они лопаются, как распознать признаки надвигающегося краха. Он показал, что даже самые респектабельные институты могут рухнуть за дни. Что рейтинги и экспертные мнения могут быть катастрофически ошибочными. Что паника создаёт возможности для тех, кто сохраняет способность думать рационально.
История Lehman Brothers стала символом. Фотографии сотрудников, выносящих коробки с вещами из офиса, облетели мир. Стопятидесятилетний банк, переживший гражданскую войну, две мировые войны, Великую депрессию, исчез за выходные. Это напоминание о хрупкости даже самых мощных финансовых институтов. Напоминание о том, что в кризис не выживает ни имя, ни история, ни размер. Выживает только тот, кто управляет рисками правильно.
Для следующего поколения инвесторов пятнадцатое сентября 2008 года должно остаться предупреждением. Кризисы повторяются, меняются только детали. В следующий раз это будет не субстандартная ипотека, а какой-то другой перегретый сегмент рынка. Но механика будет той же: чрезмерные долги, сложные финансовые инструменты, которые никто до конца не понимает, самоуспокоенность регуляторов, жадность участников. Тот, кто изучил уроки 2008 года, получил карту для навигации в следующем кризисе.
Майкл Бьюрри после кризиса закрыл свой фонд и ушёл из публичного пространства, измученный конфликтами с инвесторами и вниманием медиа. Джон Полсон продолжил управлять деньгами, но его последующие ставки оказались менее удачными, доказывая, что даже гении могут ошибаться. Но их наследие осталось: доказательство того, что глубокий анализ, контрарианское мышление и смелость держать позиции вопреки толпе могут принести сверхприбыли в кризис. Их история вдохновляет, но также и предупреждает: путь контрариана одинок и труден, и далеко не каждый способен его пройти до конца.
2.2 Как зарабатывали в 2008 году: стратегии победителей
Осень 2008 года запомнилась большинству людей как время паники, потерь и отчаяния. Банки рушились один за другим, миллионы семей теряли дома, а пенсионные счета таяли на глазах. Но для небольшой группы инвесторов этот период стал звездным часом. Пока толпа в панике бежала с рынков, они действовали по четкому плану и зарабатывали состояния. Их истории не похожи на сказки о волшебной удаче. Это примеры хладнокровного расчета, глубокого понимания механизмов экономики и готовности идти против толпы, когда страх достигает максимума.
Что объединяло всех победителей того кризиса? Они видели проблемы задолго до того, как о них заговорили в новостях. Они понимали, что субстандартная ипотека создает пузырь, который неизбежно лопнет. Они знали, какие инструменты использовать для извлечения прибыли из надвигающейся катастрофы. И самое главное, у них хватило смелости действовать, когда все вокруг говорили, что рынки будут расти вечно.
Начать стоит с самого радикального способа заработка в кризис: ставки на падение. В обычное время большинство инвесторов зарабатывают простым способом, они покупают актив дешевле и продают дороже. Но что делать, когда рынок идет вниз? Оказывается, можно зарабатывать и на падении, используя механизм, который называется короткой продажей или шортом.
Принцип работы шорта довольно прост, хотя на первый взгляд может показаться странным. Инвестор берет в долг у брокера акции компании, которые, по его мнению, должны упасть в цене. Затем он сразу же продает эти акции по текущей рыночной цене. Когда акции действительно дешевеют, он покупает их обратно по новой, более низкой цене и возвращает брокеру. Разница между ценой продажи и ценой покупки становится его прибылью.
Представьте, что вы берете в долг акцию компании по цене сто долларов и сразу продаете ее за эту сумму. Через месяц акция падает до пятидесяти долларов. Вы покупаете ее по новой цене и возвращаете брокеру, а разницу в пятьдесят долларов оставляете себе. Конечно, если бы акция выросла до ста пятидесяти, вам пришлось бы купить ее дороже и понести убыток. Именно поэтому короткие продажи считаются рискованной стратегией, требующей точного расчета времени и глубокого понимания ситуации.
В 2008 году немногие решились шортить финансовый сектор, когда банки все еще казались незыблемыми. Большинство аналитиков с Уолл-стрит продолжали давать позитивные прогнозы, а рейтинговые агентства присваивали высшие оценки ипотечным ценным бумагам. Требовалось невероятное мужество и уверенность в своем анализе, чтобы идти против этого мощного хора оптимизма.
Среди тех, кто нашел в себе эту смелость, особенно выделяется имя Джона Полсона. До 2007 года он был относительно малоизвестным управляющим хедж-фонда, который специализировался на сделках слияний и поглощений. Но именно Полсон сумел разглядеть надвигающуюся катастрофу на рынке недвижимости раньше большинства коллег и превратить это знание в одну из самых прибыльных сделок в истории финансов.
История началась в 2005 году, когда Полсон начал изучать американский рынок жилья. То, что он увидел, вызвало у него тревогу. Цены на дома росли совершенно нереальными темпами, причем часто в регионах без какого-либо экономического обоснования. В пустынях Невады и Аризоны строились целые районы, хотя местная экономика не создавала новых рабочих мест. Ипотеку выдавали людям без доходов, без работы, без каких-либо сбережений. Банки предлагали кредиты с нулевым первоначальным взносом и символическими платежами в первые годы. Вся система держалась на предположении, что цены на жилье будут расти бесконечно.
Полсон понял, что это классический финансовый пузырь, который неизбежно лопнет. Но как заработать на этом знании? Обычный шорт акций строительных компаний или банков был слишком прямолинейным и рискованным решением. Рынок мог продолжать расти еще год или два, прежде чем рухнуть, а поддержание коротких позиций обходится дорого.
Решение пришло в виде относительно малоизвестного на тот момент инструмента под названием кредитный дефолтный своп. По сути, это была страховка на случай дефолта по облигациям или другим долговым бумагам. Полсон начал покупать свопы на ипотечные ценные бумаги, особенно на те, которые были обеспечены субстандартными кредитами. Он фактически делал ставку на то, что заемщики не смогут выплачивать долги, а сами бумаги обесценятся.
Красота этой стратегии заключалась в асимметрии риска и прибыли. Покупка кредитных дефолтных свопов стоила относительно недорого, потому что рынок считал риск дефолта минимальным. Рейтинговые агентства присваивали этим бумагам высшие рейтинги. Но если прогноз Полсона окажется верным и начнутся массовые дефолты, стоимость свопов взлетит в десятки раз.
В 2006 и начале 2007 года Полсон активно накапливал эти позиции, тратя на страховку сотни миллионов долларов денег своих инвесторов. Это был нервный период. Рынок недвижимости продолжал расти, хотя и замедлялся. Клиенты фонда начали задавать неудобные вопросы о том, почему они платят за страховку, которая кажется ненужной. Некоторые инвесторы забирали деньги, не веря в апокалиптический сценарий Полсона.
Но к лету 2007 года ситуация начала меняться. Первые трещины появились на рынке субстандартной ипотеки. Заемщики стали массово допускать просрочки, а банки начали изымать дома. Цены на недвижимость развернулись вниз. Стоимость кредитных дефолтных свопов, которые Полсон накопил, начала расти.
Когда осенью 2008 года кризис достиг апогея, позиции Полсона принесли астрономическую прибыль. Его главный фонд вырос на 590% за год. Личное состояние самого Полсона увеличилось на четыре миллиарда долларов только за один год. Общая прибыль его фондов от ставок против ипотечных бумаг составила около пятнадцати миллиардов долларов. Это была одна из самых прибыльных сделок в истории, осуществленная одним инвестором.
История Полсона показывает несколько важных принципов успешного инвестирования в кризис. Первое, нужно провести глубокий анализ и сформировать собственное мнение, даже если оно противоречит консенсусу рынка. Второе, важно найти правильный инструмент для реализации своей идеи, инструмент с благоприятным соотношением риска и потенциальной прибыли. Третье, требуется терпение и готовность переждать период, когда рынок еще не признает вашу правоту. И четвертое, нужна смелость действовать, когда все говорят, что вы ошибаетесь.
Но не все зарабатывали в 2008 году на ставках против рынка. Существовала и противоположная стратегия, которая в долгосрочной перспективе оказалась не менее прибыльной: покупка качественных активов на дне кризиса. И здесь главным героем становится человек, которого многие считают величайшим инвестором всех времен.