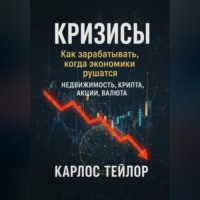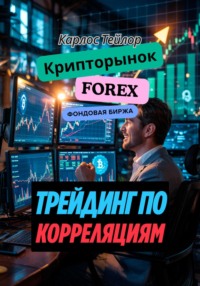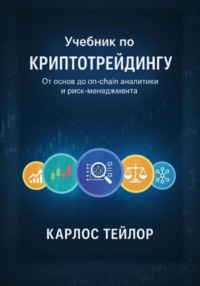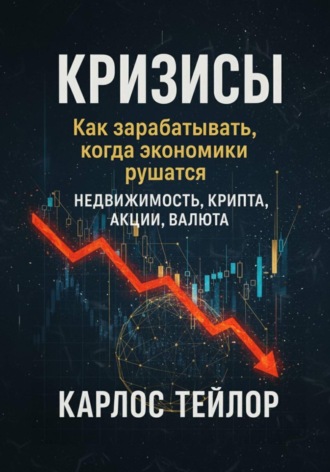
Полная версия
Кризисы. Как зарабатывать, когда экономики рушатся
Другой пример контрарианского подхода демонстрирует инвестор Джон Темплтон. Правда, его звёздный час пришёлся на следующий кризис, но именно уроки Великой депрессии сформировали его философию. Позже он говорил, что лучшее время для покупок наступает в момент максимального пессимизма. Когда кажется, что мир рушится навсегда, именно тогда и открываются самые выгодные возможности.
Были и те, кто делал состояния не на финансовых рынках. Компании, производившие товары первой необходимости, не только выживали, но и процветали. Procter & Gamble продолжала продавать мыло и зубную пасту. Люди, может быть, и отказывались от автомобилей, но чистить зубы не переставали. Coca-Cola тоже прошла через депрессию относительно благополучно. Бутылка колы за пять центов оставалась доступной роскошью даже для бедняков.
Инвесторы, которые держали золото, тоже оказались в выигрыше. Хотя в те годы действовал золотой стандарт и официальная цена была фиксированной, психологически золото давало ощущение безопасности. А когда в 1933 году правительство провело девальвацию доллара относительно золота, те, кто держал физический металл, получили прибыль.
Ключевой урок Великой депрессии состоит в понимании разницы между временными проблемами и фундаментальными изменениями. Те, кто в тридцать втором году купил акции General Electric или US Steel по бросовым ценам, через десять лет сидели на многократной прибыли. Эти компании не исчезли, они просто временно подешевели из-за общей паники. Но различить качественную компанию в трудное время и реальный банкрот непросто.
Второй важный урок касается ликвидности. Во время кризиса наличные – король. У Кеннеди и других успешных инвесторов депрессии был кэш для покупки активов на дне. Большинство же держало всё в акциях, купленных на заёмные деньги, и когда пришла пора действовать, у них не осталось ресурсов. Парадокс в том, что возможности появляются именно тогда, когда кажется, что держать неработающие деньги глупо.
Третий урок – опасность кредитного плеча. Маржинальная торговля в двадцатые годы превратила просадку рынка в катастрофу для миллионов людей. Если бы они владели акциями без заёмных средств, многие пересидели бы падение и в итоге восстановили капитал. Но долг не ждёт. Когда брокер требует деньги на маржин-колл, приходится продавать на худших ценах. Плечо умножает не только прибыль, но и убытки, причём умножение убытков обычно происходит быстрее.
Четвёртый урок связан с психологией. Депрессия показала, насколько сильно человеческое поведение зависит от эмоций, а не от рационального анализа. Летом двадцать девятого года все знали, что акции переоценены, но жадность была сильнее. Осенью все понимали, что при таких ценах некоторые компании стоят копейки, но страх парализовал. Успешные инвесторы научились отделять эмоции от решений.
Интересно проследить, как менялось отношение общества к фондовому рынку после депрессии. Целое поколение поклялось никогда не связываться с акциями. Даже в пятидесятые и шестидесятые годы, когда экономика процветала, многие американцы держали сбережения только в облигациях и недвижимости. Травма оказалась настолько глубокой, что понадобились десятилетия для восстановления доверия.
Правительственная реакция на депрессию тоже даёт важные уроки. Администрация Гувера поначалу придерживалась невмешательства, считая, что рынок сам себя исправит. Это усугубило кризис. Только с приходом Рузвельта и его Нового курса начались масштабные государственные интервенции: страхование вкладов, регулирование бирж, общественные работы. Споры о правильности этих мер идут до сих пор, но факт остаётся фактом – полное невмешательство не работало.
Создание Комиссии по ценным бумагам и биржам в 1934 г. изменило правила игры. Требования к раскрытию информации, ограничения на маржинальную торговлю, запрет на манипуляции – всё это было прямым следствием краха. Иронично, что первым главой комиссии стал именно Джозеф Кеннеди, человек, который использовал недостатки старой системы для обогащения. Видимо, Рузвельт считал, что бывший спекулянт лучше других знает, какие лазейки нужно закрыть.
Система страхования вкладов остановила банковские паники. Когда люди знают, что их деньги защищены государством до определённой суммы, исчезает стимул бежать в банк при первых слухах. Это простое нововведение спасло финансовую систему от повторения кошмара тридцатых годов. Современные кризисы видели проблемы банков, но массовых разорений из-за паники вкладчиков не случалось.
Применяя уроки Великой депрессии к современности, нужно учитывать изменения. Сегодня центробанки действуют агрессивно, вливая ликвидность при первых признаках проблем. Это, безусловно, предотвращает худшие сценарии, но создаёт собственные риски. Инвесторы привыкли, что государство всегда придёт на помощь, что порождает моральный риск и новые пузыри.
Технологии изменили скорость событий. В двадцать девятом году крах растянулся на недели. Современные рынки могут упасть на 20% за день, как показал март 2020 года. Алгоритмическая торговля и мгновенное распространение информации через соцсети создают условия для флеш-крэшей. Но базовая психология не изменилась: люди по-прежнему жадничают на вершине и паникуют на дне.
Параллели между двадцатыми годами прошлого века и современностью иногда пугают. Маржинальная торговля никуда не делась, просто называется иначе. Розничные инвесторы активно используют опционы с плечом, не до конца понимая риски. Мемные акции и криптовалюты порой торгуются с оценками, которые делают Radio Corporation образцом консерватизма. Когда таксист Uber начинает давать советы по опционным стратегиям, возникает дежавю.
Спекулятивные пузыри – не аномалия, а норма капитализма. Они будут повторяться, потому что человеческая природа не меняется. Жадность и страх – вечные двигатели рынков. Вопрос не в том, будет ли следующий пузырь, а когда он лопнет и насколько сильным окажется крах. История учит, что предсказать точное время невозможно, но можно подготовиться.
Подготовка начинается с принятия того факта, что кризисы неизбежны. Это не катастрофы, а часть экономического цикла. За подъёмом всегда следует спад. Понимание этого помогает избежать самой большой ошибки – верить, что на этот раз будет иначе. Эта фраза убила больше портфелей, чем все прочие заблуждения вместе взятые.
Практический вывод из опыта Великой депрессии прост: держите ликвидность, избегайте чрезмерного плеча, покупайте качественные активы по разумным ценам и будьте готовы действовать контрариански. Когда все вокруг скупают акции на пике эйфории, продавайте. Когда кажется, что мир рушится, и никто не хочет ничего покупать – самое время входить. Легко сказать, трудно сделать, но именно в этом разница между теми, кто обогатился в кризис, и теми, кто разорился.
Джозеф Кеннеди не был гением и не обладал магическими способностями предвидения. Он просто следовал базовым принципам: продал, когда все покупали, шортил на падении, покупал качество на дне. Эти принципы работали девяносто лет назад и работают сейчас. Изменились инструменты, появились новые активы, но логика осталась той же.
Великая депрессия закончилась полностью только с началом Второй мировой войны, когда военные заказы запустили экономику. Восстановление заняло более десяти лет. Но для тех инвесторов, которые купили акции в тридцать втором или тридцать третьем году, ждать десять лет не пришлось. Уже через пять лет их портфели показывали солидную прибыль. А к пятидесятым годам те, кто держал позиции, стали очень состоятельными людьми.
Финальный урок столетней давности заключается в том, что время лечит раны рынков. Индекс Dow Jones, упавший с трёхсот восьмидесяти до сорока одного пункта, к 1954 году вернулся к довоенным максимумам. Компании, пережившие депрессию, стали сильнее. Экономика адаптировалась и продолжила расти. Капитализм показал удивительную живучесть, несмотря на все его недостатки и кризисы.
Для современного инвестора эти знания критически важны. Следующий крупный кризис обязательно произойдёт. Невозможно сказать, когда именно и что станет триггером. Может быть, лопнет пузырь на рынке облигаций, может – очередной финансовый инструмент выйдет из-под контроля. Важно другое: у вас уже есть карта того, как действовать. История не повторяется точно, но рифмуется. Те же паттерны, те же ошибки, те же возможности для тех, кто готов учиться на опыте прошлого.
1.3 Нефтяные кризисы 1970-х: когда рушатся сырьевые рынки
Когда 17 октября 1973 года министры нефтедобывающих арабских государств собрались в Кувейте, мир ещё не знал, что следующие несколько часов перевернут глобальную экономику на десятилетия вперёд. Решение было простым и разрушительным: сократить добычу нефти на 5% ежемесячно до тех пор, пока Израиль не выведет войска с оккупированных территорий. Через несколько дней цена барреля нефти подскочила с трёх долларов до двенадцати. За три месяца мировая экономика столкнулась с явлением, которое казалось невозможным: одновременным ростом цен и падением производства. Эпоха дешёвой энергии закончилась, и вместе с ней рухнули все экономические модели послевоенного процветания.
История нефтяного эмбарго началась задолго до октября семьдесят третьего. После Второй мировой войны западные экономики построили своё благополучие на одной простой предпосылке: нефть будет всегда дешёвой и доступной. Американские автомобили становились всё больше и прожорливее, пригороды разрастались, промышленность потребляла энергию без оглядки на завтрашний день. Нефть текла рекой из Персидского залива, и казалось, что этот поток никогда не иссякнет. Западные компании контролировали добычу, западные страны диктовали цены, а арабские монархии молча получали свою долю, не имея реальной власти над собственными ресурсами.
Но мир менял. В шестидесятых годах страны-экспортёры нефти начали понимать, что сидят на самом ценном ресурсе планеты, отдавая его почти даром. В сентябре 1960 года в Багдаде представители Ирана, Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии и Венесуэлы создали Организацию стран-экспортёров нефти. Первые годы ОПЕК была скорее дискуссионным клубом, чем реальной силой. Западные нефтяные компании продолжали вести дела как обычно, не воспринимая угрозу всерьёз. Но когда осенью семьдесят третьего разразилась очередная арабо-израильская война, нефтяные министры поняли, что у них в руках появилось оружие посильнее танков и самолётов.
Эмбарго ударило по западным экономикам с силой урагана. В Нидерландах, полностью отрезанных от арабской нефти, правительство запретило воскресные поездки на автомобилях. Картина опустевших автобанов осталась в памяти целого поколения европейцев. В США очереди на заправках растянулись на километры, водители дежурили ночами, чтобы заправить баки. Цены на бензин взлетели на 60% за несколько недель. Авиакомпании сокращали рейсы, заводы останавливали конвейеры, магазины пустели. Экономика, построенная на дешёвой энергии, захлёбывалась.
Но настоящий шок был ещё впереди. Нефтяное эмбарго закончилось в марте 1974 года, но цены не вернулись на прежний уровень. Арабские страны поняли свою силу и не собирались её отдавать. Баррель, стоивший до кризиса три доллара, теперь торговался по двенадцать. Это был не временный скачок, а фундаментальный сдвиг в глобальной экономике. Деньги потекли из промышленных стран Запада в нефтедобывающие государства Персидского залива. За один год страны ОПЕК получили дополнительные семьдесят миллиардов долларов, сумму, сопоставимую с годовым ВВП Великобритании того времени.
Экономисты столкнулись с явлением, которое не вписывалось ни в одну существующую теорию. Инфляция разгонялась до двузначных цифр, а экономика при этом не росла, а сокращалась. В 1974 году американский ВВП упал на 2,5%, а цены выросли на 11%. В Великобритании инфляция достигла 24% процентов при падающем производстве. Традиционные инструменты денежной политики переставали работать. Если центробанк поднимал ставки, чтобы сбить инфляцию, экономика проваливалась ещё глубже в рецессию. Если снижал ставки, чтобы стимулировать рост, инфляция разгонялась сильнее.
Это явление получило название стагфляция, комбинация стагнации и инфляции. Для экономистов кейнсианской школы, доминировавших после войны, стагфляция была невозможна теоретически. Их модели предполагали, что инфляция и безработица движутся в противоположных направлениях: либо растут цены при полной занятости, либо растёт безработица при стабильных ценах. Реальность семидесятых разбила эти представления вдребезги. Цены росли, заводы закрывались, миллионы теряли работу одновременно.
Стагфляция оказалась самым болезненным видом экономического кризиса для обычных людей. Инфляция съедала сбережения, а рецессия лишала работы. Средний класс западных стран, привыкший к постоянному росту благосостояния, вдруг обнаружил, что его реальные доходы падают. Профсоюзы требовали повышения зарплат, чтобы компенсировать рост цен. Работодатели повышали зарплаты, но затем поднимали цены на свои товары, чтобы сохранить прибыль. Цены росли дальше, профсоюзы требовали новых повышений. Спираль зарплаты и цен раскручивалась всё быстрее, а правительства не знали, как её остановить.
Политики метались между стимулированием экономики и борьбой с инфляцией. Американский президент Джеральд Форд запустил кампанию под лозунгом "Победим инфляцию сейчас", раздавая значки с аббревиатурой WIN. Призывы к добровольному сдерживанию цен и экономии не принесли результата. Его преемник Джимми Картер назвал энергетический кризис "моральным эквивалентом войны" и призвал американцев носить свитера вместо того, чтобы включать отопление на полную мощность. Но моральные призывы не могли заменить реальную экономическую политику.
Первый нефтяной шок семьдесят третьего года был лишь началом. В семьдесят девятом разразился второй кризис, ещё более разрушительный. Исламская революция в Иране свергла шаха и остановила иранскую нефтедобычу. Затем началась ирано-иракская война, выбившая из рынка ещё несколько миллионов баррелей в день. Цена нефти взлетела с тринадцати до тридцати четырёх долларов за баррель. Мировая экономика снова погрузилась в рецессию, на этот раз ещё глубже.
Но именно в этом хаосе, когда большинство теряло деньги и надежду, появились те, кто увидел возможности. Самым очевидным победителем стало золото. Драгоценный металл, который веками служил защитой от инфляции, в семидесятых показал всю свою силу. В начале десятилетия унция стоила тридцать пять долларов. К январю восьмидесятого года цена достигла восьмисот пятидесяти долларов. Рост в двадцать четыре раза за десять лет. Те, кто купил золото в начале семидесятых, превратили свои сбережения в состояние.
Золотая лихорадка семидесятых была не просто спекулятивным пузырём. За ней стояла фундаментальная логика. Когда инфляция достигает двузначных цифр, бумажные деньги теряют ценность с пугающей скоростью. Доллары, фунты, марки таяли в руках. Облигации, считавшиеся безопасными активами, приносили убытки, потому что купонные выплаты не успевали за ростом цен. Недвижимость требовала больших капиталовложений и была неликвидна. А золото можно было купить в любой момент, хранить дома или в банковской ячейке, и его ценность росла вместе с инфляцией.
Инвесторы, которые поняли эту логику раньше других, заработали состояния. Семейные фонды, переложившие портфели в золото в начале семидесятых, увеличили капиталы в разы. Обычные люди, купившие золотые монеты или слитки, сохранили покупательную способность своих сбережений, в то время как их соседи, державшие деньги в банках, теряли по 20% в год. К концу десятилетия золото стало синонимом защиты от экономического хаоса.
Но золото было не единственной возможностью. Энергетический кризис породил целую индустрию альтернативной энергетики. Солнечные панели, ветряные установки, геотермальная энергия, всё это существовало и раньше, но считалось экзотикой или игрушками для энтузиастов. Когда цена барреля нефти выросла в десять раз, альтернативные источники энергии внезапно стали экономически осмысленными.
Правительства западных стран выделили миллиарды на исследования в области энергетики. Калифорния запустила программу субсидирования солнечных панелей для частных домов. Дания начала устанавливать ветряные турбины на своём побережье. Франция развернула масштабную программу строительства атомных электростанций, чтобы снизить зависимость от импортной нефти. За десять лет французы построили пятьдесят восемь реакторов, переведя большую часть энергетики на атом.
Компании, которые смогли предложить энергоэффективные решения, получили огромное конкурентное преимущество. Японские автопроизводители, выпускавшие компактные экономичные машины, захватили американский рынок у гигантов Детройта с их прожорливыми седанами и внедорожниками. Honda Civic и Toyota Corolla стали символами новой эры. Пока американские производители продолжали штамповать огромные автомобили, расходующие двадцать литров на сотню, японцы предлагали машины, потребляющие вдвое меньше. К концу семидесятых японские марки заняли четверть американского рынка, начав эпоху доминирования азиатского автопрома.
Нефтяной кризис изменил и саму нефтяную индустрию. Когда цена барреля поднялась выше десяти долларов, разработка месторождений, считавшихся нерентабельными, стала прибыльной. Нефтяные компании устремились на шельф Северного моря, в Аляску, в труднодоступные регионы. Британия и Норвегия из импортёров нефти превратились в крупных экспортёров. К середине восьмидесятых Северное море давало четыре миллиона баррелей в день, снижая зависимость Европы от Ближнего Востока.
Те инвесторы, которые купили акции нефтесервисных компаний в середине семидесятых, поймали волну роста. Компании, занимавшиеся бурением на шельфе, производством оборудования для сложных месторождений, транспортировкой нефти из удалённых регионов, увеличили прибыли в разы. Стоимость их акций росла пропорционально. Это был не спекулятивный рост, а отражение фундаментальных изменений в индустрии.
Энергетический кризис преподал миру жёсткий урок о том, как сырьевые шоки меняют глобальную экономику. До семидесятых годов экономисты рассматривали сырьё как данность, фоновый фактор, который не влияет на большую картину. Нефть была дешёвой, её было много, можно было не думать об ограничениях. Кризис показал, что зависимость от одного ресурса может парализовать целые экономики.
Страны начали думать о стратегической автономии в энергетике. США создали стратегический нефтяной резерв, огромные подземные хранилища, способные вместить несколько месяцев импорта. Европа диверсифицировала поставщиков, снижая долю ближневосточной нефти. Япония, не имея собственных ресурсов, инвестировала в энергоэффективность всей экономики, доведя её до совершенства.
Кризис семидесятых запустил технологическую революцию в добыче нефти. Компании научились бурить на глубинах в тысячи метров под водой, освоили горизонтальное бурение, разработали методы повышения нефтеотдачи. Эти технологии потом привели к сланцевой революции 2000-х годов, когда США стали крупнейшим производителем нефти в мире. Но начало было положено в семидесятых, когда высокие цены сделали рентабельными сложные проекты.
Финансовые рынки тоже изменились навсегда. До кризиса сырьё было нишевым рынком, интересным лишь специализированным трейдерам. После семидесятых оно стало отдельным классом активов. Инвесторы поняли, что нефть, золото, металлы могут быть не только производственными ресурсами, но и инструментами сохранения капитала. Появились товарные фьючерсы, индексы сырья, специализированные фонды. К концу века сырьевой рынок превратился в триллионный сегмент глобальной финансовой системы.
Геополитическая карта мира тоже перекроилась. Страны ОПЕК, внезапно получившие огромные финансовые ресурсы, начали играть новую роль. Саудовская Аравия из бедного пустынного королевства превратилась в финансового тяжеловеса с сотнями миллиардов долларов резервов. Небольшие государства Персидского залива, такие как Кувейт и ОАЭ, стали одними из богатейших стран мира на душу населения. Эти деньги пошли не только на дворцы и роскошь, но и на инвестиции в западные активы, создание суверенных фондов, строительство современной инфраструктуры.
Нефтедоллары вернулись в западную финансовую систему через другую дверь. Арабские страны не могли потратить все полученные деньги немедленно. Они размещали средства в американских банках, покупали казначейские облигации, инвестировали в европейскую недвижимость. Этот поток денег помог финансировать дефициты западных бюджетов, но при этом создал новые зависимости. Теперь арабские монархии владели значительными долями западных активов, что давало им дополнительный рычаг влияния.
Кризис семидесятых показал, что глобализация – это улица с двусторонним движением. Западные страны зависели от ближневосточной нефти, но арабские страны зависели от западных технологий, продовольствия, военного оборудования. Попытка использовать нефть как оружие привела к тому, что обе стороны осознали взаимную зависимость. Полная изоляция была невозможна, но и полное доминирование одной стороны тоже.
Для обычных инвесторов уроки семидесятых оказались бесценными. Во-первых, диверсификация – это не просто теоретическая концепция, а практическая необходимость. Портфели, состоявшие только из акций и облигаций, потеряли значительную часть стоимости. Те, кто держал золото и сырьевые активы, сохранили капитал. Во-вторых, инфляция убивает покупательную способность быстрее, чем кажется. Даже 10% в год означают, что деньги обесцениваются вдвое за семь лет. В-третьих, кризисы создают новые возможности для тех, кто готов мыслить нестандартно.
Семидесятые годы также показали важность понимания макроэкономических трендов. Инвестор, который следил за ростом влияния ОПЕК, видел риски заранее. Тот, кто понимал, что энергия станет дороже надолго, мог вложиться в альтернативную энергетику или энергоэффективные технологии. Макроэкономика перестала быть абстрактной наукой и стала практическим инструментом для принятия инвестиционных решений.
К началу восьмидесятых мир был уже другим. Новый председатель Федеральной резервной системы Пол Волкер поднял процентные ставки до невиданных высот, 20% годовых, чтобы задушить инфляцию. Рецессия восьмидесятого и восемьдесят первого годов стала самой глубокой со времён Великой депрессии. Но инфляция была сломлена. К середине восьмидесятых цены стабилизировались, экономический рост возобновился.
Цена нефти тоже начала снижаться. Высокие цены стимулировали добычу вне ОПЕК, а рецессия снизила спрос. К середине восьмидесятых баррель стоил меньше пятнадцати долларов. Власть нефтяного картеля ослабла. Но урок был выучен. Мир больше никогда не будет относиться к энергетической безопасности легкомысленно. Диверсификация поставок, стратегические резервы, развитие альтернативных источников, всё это стало частью экономической политики развитых стран.
Для следующих поколений инвесторов нефтяные кризисы семидесятых остались примером того, как фундаментальные сдвиги в сырьевых рынках могут создавать огромные возможности. Те, кто купил золото в начале десятилетия, заработали больше, чем держатели акций за всю послевоенную эпоху. Те, кто вложился в энергоэффективность и альтернативную энергетику, поймали волну технологических изменений на десятилетия вперёд. Те, кто понял геополитический сдвиг власти, смогли спозиционироваться в новой реальности.
Семидесятые годы преподали ещё один урок: правительства не всемогущи. Десятилетиями казалось, что центральные банки и министерства финансов могут управлять экономикой, сглаживая циклы и обеспечивая стабильный рост. Стагфляция показала ограничения этой власти. Когда одновременно нужно бороться с инфляцией и стимулировать рост, традиционные инструменты не работают. Политики выбирают между двумя болезненными вариантами, и любой выбор причиняет страдания.
Эта беспомощность властей создала возможности для частных инвесторов. Когда правительство не может защитить ценность денег, люди ищут альтернативы. Золото, недвижимость, сырьё, всё, что нельзя напечатать бесконечно, становится привлекательным. Те, кто это понял, смогли защитить свои сбережения и даже заработать, пока остальные теряли покупательную способность.
Кризис семидесятых также показал, что глобальные системы хрупки. Экономика, построенная на предположении о бесконечно дешёвой энергии, рухнула, когда это предположение оказалось ложным. Финансовая система, не учитывавшая геополитические риски, оказалась беззащитной перед решением нескольких министров в Кувейте. Эта хрупкость означает, что всегда нужно держать в уме альтернативные сценарии, не полагаясь на то, что текущая ситуация сохранится вечно.
Сегодня, когда мир снова говорит об энергетическом переходе и отказе от ископаемого топлива, уроки семидесятых особенно актуальны. Любой фундаментальный сдвиг в энергетике создаёт победителей и проигравших. Страны и компании, которые адаптируются быстрее, получают преимущество. Те, кто цепляется за старые модели, рискуют остаться позади. Инвесторы, которые видят эти тренды раньше рынка, могут заработать на трансформации.