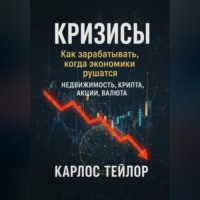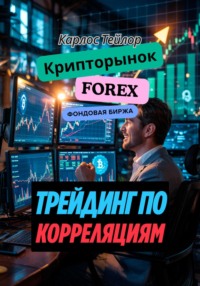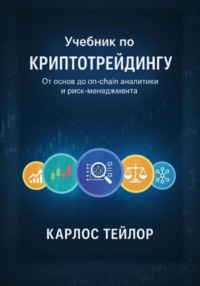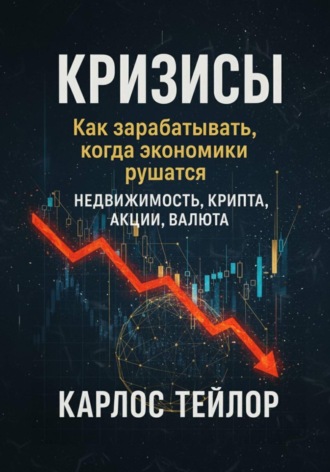
Полная версия
Кризисы. Как зарабатывать, когда экономики рушатся
Рынок недвижимости начал восстанавливаться с 2012 года. В некоторых городах цены росли по 20% в год. Инвесторы, купившие foreclosed properties – дома, отобранные банками у неплательщиков – в 2010-2011 годах, к середине десятилетия сидели на прибыли в 100-200%. Компании вроде Blackstone создали целые подразделения по скупке жилой недвижимости, превращая её в арендные портфели. Они понимали: пока ФРС держит ставки низкими, стоимость заимствований для покупки домов остаётся минимальной, а цены на недвижимость будут расти.
Корпорации тоже воспользовались эрой дешёвых денег, но немного по-другому. Вместо того чтобы занимать для инвестиций в новые заводы или исследования, многие крупные компании выпускали облигации под 3-4% годовых и использовали вырученные средства для выкупа собственных акций с рынка. Логика была безупречной: зачем инвестировать в рискованные проекты, когда можно гарантированно повысить прибыль на акцию, просто сократив количество акций в обращении? Apple выпустила облигаций на десятки миллиардов долларов, несмотря на то что у компании были огромные наличные резервы. Эти деньги лежали за границей, и репатриировать их означало платить высокие налоги. Проще было занять дома под смешные ставки.
Программы выкупа акций достигли рекордных масштабов. В период с 2009 по 2017 год компании из индекса S&P 500 потратили на байбэки более четырёх триллионов долларов. Критики говорили, что это искусственно раздувает фондовый рынок, что компании жертвуют долгосрочным развитием ради краткосрочного роста котировок, от которого выигрывают в первую очередь топ-менеджеры с опционами на акции. Но в среде количественного смягчения эта стратегия работала безотказно.
Побочным эффектом дешёвых денег стал бум стартапов и венчурного капитала. Когда традиционные инвестиции приносят 2-3% годовых, инвесторы готовы рисковать ради обещания десятикратной или стократной доходности. Венчурные фонды получили рекордные объёмы капитала для инвестиций в технологические компании. Стартапы, которые в обычное время с трудом находили финансирование, теперь привлекали десятки и сотни миллионов долларов, даже не имея прибыли или чёткой бизнес-модели.
Uber, Airbnb, WeWork и множество других компаний выросли именно в этой среде. Они теряли деньги год за годом, но инвесторы не возражали: главное было захватить рынок, а прибыльность могла подождать. Это работало, пока деньги оставались дешёвыми. Когда позже, в конце 2010-х, ФРС начала повышать ставки, многие из этих бизнес-моделей оказались под вопросом. Но в период количественного смягчения критиковать убыточные стартапы считалось признаком непонимания новой экономики.
Количественное смягчение создало целый класс инвесторов, которые никогда не видели медвежьего рынка длительностью больше нескольких месяцев. Молодые трейдеры, начавшие карьеру после 2009 года, усвоили простую истину: просадки нужно покупать, потому что ФРС всегда придёт на помощь. Когда рынок падал на 5-10%, это воспринималось не как угроза, а как возможность купить подешевевшие активы. И каждый раз рынок действительно отскакивал вверх, подтверждая правоту оптимистов.
Эта уверенность породила явление, которое экономисты назвали "моральным риском". Инвесторы знали: центральные банки не позволят рынкам упасть слишком сильно, потому что финансовая стабильность стала приоритетом номер один после кризиса 2008 года. Любая серьёзная коррекция встречала немедленную реакцию: намёки на новые программы стимулирования, отсрочку повышения ставок, успокаивающие речи председателей центробанков. Рынок получил негласную гарантию, известную как "put от Федрезерва" – уверенность, что падение будет остановлено.
Инвесторы, использовавшие эту логику, получали огромную прибыль. Простая стратегия: покупать на коррекциях, держать акции долгосрочно и не пытаться угадать вершину рынка – приносила среднегодовую доходность в районе 15-20% с учётом дивидендов. Тот, кто вложил 100 тысяч долларов в индексный фонд S&P 500 в марте 2009 года, к концу 2017 года имел около 400 тысяч долларов. Учитывая, что инфляция была минимальной, это означало реальное учетверение капитала за восемь с половиной лет.

Золото, которое многие считали страховкой от печатания денег, показало противоречивые результаты. С 2009 по 2011 год цена унции выросла с семисот пятидесяти до 1900 долларов, что казалось подтверждением теории о неминуемой инфляции. Золотые жучки праздновали победу, предрекая дальнейший рост до 3 или даже 5 тысяч долларов за унцию. Однако затем началась коррекция. К концу 2015 года золото торговалось около 1050 долларов, потеряв почти половину стоимости от пика. Инвесторы, вложившиеся в золото на максимумах, понесли значительные убытки.
Причина разочарования золота была проста: ожидаемая инфляция не материализовалась, а реальные процентные ставки, хоть и были низкими, оставались положительными. Золото не приносит процентов и дивидендов, его привлекательность растёт только в условиях либо высокой инфляции, либо финансового хаоса. Когда стало ясно, что количественное смягчение не приведёт к краху доллара, а лишь поддержит экономику и раздует цены активов, инвесторы предпочли акции и недвижимость.
Облигации – традиционная защита в кризисные времена – оказались в парадоксальной ситуации. Казначейские облигации США, которые в разгар паники 2008-2009 годов приносили доходность 3-4% годовых, к 2012 году давали меньше 2%, а десятилетние бонды опускались до 1,5%. Покупать облигации при таких ставках казалось безумием: инфляция съедала всю доходность. Однако благодаря программам количественного смягчения даже эти низкие ставки продолжали падать, что означало рост цен самих облигаций.
Инвесторы, купившие тридцатилетние казначейские облигации в 2011 году с доходностью 3%, к 2016 году получили около 30% прибыли от роста цены облигации, когда ставки упали до 2,5%. Облигационный рынок, который традиционно считается скучным и предсказуемым, превратился в источник спекулятивной прибыли. Управляющие фондами зарабатывали, угадывая действия центральных банков и покупая облигации перед очередными раундами количественного смягчения.
Развивающиеся рынки получили мощный импульс от американского и европейского количественного смягчения. Триллионы долларов, созданных западными центробанками, искали более высокую доходность и устремились в страны Азии, Латинской Америки и Восточной Европы. Бразильские, турецкие, индонезийские активы росли в цене, их валюты укреплялись, экономики бурно развивались. С 2009 по 2013 год фонды развивающихся рынков давали среднегодовую доходность выше 20%.
Однако эта медаль имела обратную сторону. Когда в 2013 году председатель ФРС Бен Бернанке намекнул, что программа количественного смягчения может быть свёрнута раньше, чем ожидалось, начался "taper tantrum" – приступ истерики на рынках. Капитал начал стремительно уходить из развивающихся стран обратно в США. Валюты развивающихся рынков обвались на 10-20% за несколько недель. Те, кто вовремя не зафиксировал прибыль, потеряли значительную часть заработанного.
Количественное смягчение изменило саму природу инвестирования. Традиционный анализ компаний – изучение балансов, прогнозирование прибылей, оценка конкурентных преимуществ – отошёл на второй план. Главным стало понимание действий центральных банков. Трейдеры разбирали каждое слово в выступлениях председателей ФРС и ЕЦБ, пытаясь предугадать следующий шаг в монетарной политике. Возникла новая профессия – интерпретатор центробанковской риторики.
Стратегия "следуй за ФРС" стала мантрой успешных инвесторов. Когда центральный банк смягчает политику – расширяет баланс, снижает ставки, запускает новые программы стимулирования – нужно покупать рискованные активы. Когда ФРС сворачивает стимулы и намекает на ужесточение, пора фиксировать прибыль и переходить в защитные позиции. Эта простая логика работала год за годом, обогащая тех, кто ей следовал, и разоряя упрямцев, пытавшихся инвестировать вопреки политике денежных властей.
Критики количественного смягчения указывали на растущее неравенство. Владельцы акций и недвижимости становились богаче, потому что именно эти активы росли в цене. Но большинство населения не имело значительных инвестиций в фондовый рынок. Их зарплаты росли медленно, сбережения на банковских счетах приносили околонулевой процент, а цены на жильё в крупных городах взлетали, делая покупку дома недостижимой мечтой. Количественное смягчение спасло финансовую систему и обогатило инвесторов, но обычные люди почувствовали эффект лишь косвенно.
К середине десятилетия стало ясно: мир вступил в новую эпоху. Эпоху, где центральные банки играют роль не просто регуляторов процентных ставок, но активных участников рынка, крупнейших покупателей облигаций, последней инстанции поддержки экономики. Старые правила перестали работать. Инвесторы, жившие по принципам докризисного мира, терпели убытки или упускали прибыль. Выигрывали те, кто адаптировался к новой реальности дешёвых денег и понял: пока центральные банки готовы создавать триллионы из воздуха для поддержки экономики, финансовые активы будут расти.
Количественное смягчение не просто спасло мировую экономику от повторения Великой депрессии. Оно создало новую парадигму, в которой деньги перестали быть ограниченным ресурсом, а стали инструментом управления экономикой. Инвесторы, осознавшие это первыми и скорректировавшие свои стратегии, заработали состояния. Те же, кто продолжал ждать краха и инфляции, теряли возможности год за годом, наблюдая, как рынки растут вопреки всем прогнозам апокалипсиса.
История количественного смягчения показывает: в современном мире понимание монетарной политики важнее умения читать финансовую отчётность. Центральные банки стали крупнейшими игроками на рынке, и игнорировать их действия равносильно самоубийству для портфеля. Следующий кризис неизбежно принесёт новые раунды печатания денег, возможно, ещё более масштабные. Те, кто усвоил уроки 2008-2015 годов, будут готовы использовать эту ситуацию. Остальные снова будут удивляться, почему богатые становятся ещё богаче, пока они стоят в стороне.
2.4 Долговой кризис в Европе 2010-2012
Когда в октябре 2009 года новое правительство Греции признало, что предыдущая администрация годами манипулировала статистикой дефицита бюджета, мало кто мог предположить, что это откровение едва не разрушит всю еврозону. Реальный дефицит оказался не 3,7%, как заявлялось ранее, а целых 12,7% ВВП. Государственный долг достиг 115% ВВП вместо официальных 99%. Этот момент стал спусковым крючком для одного из самых драматичных кризисов в истории единой европейской валюты.
Проблема заключалась не только в греческом обмане. За красивым фасадом европейской интеграции скрывались фундаментальные изъяны всей конструкции евро. Представьте себе дом, где разные семьи живут под одной крышей, пользуются общей валютой для расчётов между собой, но при этом каждая семья ведёт собственный бюджет и тратит столько, сколько хочет. Одни семьи экономны и дисциплинированы, другие привыкли жить не по средствам. Когда наступают трудные времена, экономные семьи должны спасать расточительных, иначе рухнет весь дом. Именно такой была ситуация в еврозоне в 2010 году.
Греция стала первой костяшкой домино. Весной 2010 года страна уже не могла привлекать займы на рынке по приемлемым ставкам. Доходность десятилетних греческих облигаций взлетела до 12%, затем до 15%, потом перевалила за 30%. Для сравнения: немецкие облигации той же срочности торговались с доходностью около 2-3%. Инвесторы массово избавлялись от греческих бумаг, опасаясь дефолта. Евро падал, рынки по всему миру нервничали. Воспоминания о крахе Lehman Brothers в 2008 году были ещё слишком свежи, чтобы позволить себе очередную катастрофу.
В мае 2010 года Европейский союз и Международный валютный фонд собрали первый пакет помощи Греции на 110 миллиардов евро. Условия были жёсткими: радикальное сокращение бюджетных расходов, повышение налогов, приватизация госимущества, реформа пенсионной системы. Греческое правительство согласилось на всё. На улицах Афин начались протесты и беспорядки. Люди не понимали, почему они должны расплачиваться за ошибки политиков и банкиров. Средний класс беднел на глазах, безработица росла месяц за месяцем.
Но Греция была только началом. Вскоре стало ясно, что проблемы есть и у других стран южной периферии еврозоны. Ирландия столкнулась с кризисом банковской системы после лопнувшего пузыря на рынке недвижимости. Чтобы спасти банки, правительство национализировало их долги, и государственный долг взлетел со скромных 25% ВВП в 2007 году до более чем 100% к 2010-му. Ирландии также пришлось просить о помощи, получив 85 миллиардов евро.
Португалия оказалась третьей в очереди за спасательным кругом. Страна десятилетиями жила не по средствам, имея хронический дефицит счёта текущих операций и низкие темпы экономического роста. Португальские облигации тоже начали распродаваться, доходность росла, и весной 2011 года страна получила помощь в размере 78 миллиардов евро.
Испания представляла собой значительно более серьёзную проблему из-за размера своей экономики. Четвёртая экономика еврозоны, Испания переживала последствия гигантского пузыря на рынке недвижимости, который лопнул в 2008 году. Испанские банки были забиты токсичными активами, связанными с недвижимостью. Безработица в стране выросла до катастрофических 25%, среди молодёжи она превышала 50%. Целое поколение испанцев столкнулось с тем, что не может найти работу. Многие уезжали из страны в поисках лучшей доли. Испанские облигации также начали дешеветь, и доходность десятилетних бумаг приближалась к опасной отметке в 7%, которая считалась порогом устойчивости.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.