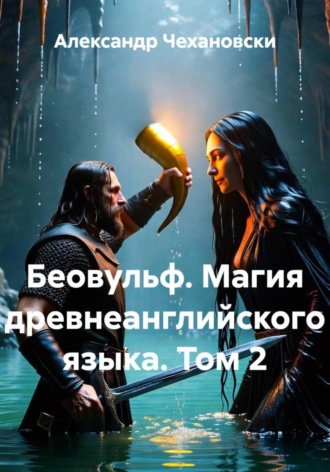
Полная версия
Беовульф. Магия древнеанглийского языка. Том 2
Хини охарактеризовал литературный разбор Толкина как «блистательный» и заключил, что с этой работы началась «новая эра признания» поэмы, коренным образом изменившая её восприятие.
Новый свет: перевод Толкина как комментарий к эссе
Опубликованный посмертно в 2014 году прозаический перевод «Беовульфа», выполненный самим Толкином (Beowulf: A Translation and Commentary), предоставил исследователям уникальный инструмент для более глубокого понимания его знаменитого эссе.
Как отмечает Том Шиппи, перевод проливает свет на то, «что же Толкин на самом деле думал в 1936 году». Когда Толкин писал, что «Беовульф» – это не точная картина Скандинавии около 500 года н.э., но самосогласованная картина, несущая следы замысла и мысли, у читателя мог возникнуть вопрос: что именно он подразумевал? Шиппи, опираясь на хронологические выкладки из книги 2014 года и работы таких археологов, как Мартин Рундквист, утверждает, что Толкин видел за фасадом легенды отголоски реальных исторических катаклизмов. Данные свидетельствуют о серьёзных потрясениях среди гаутов в тот период: миграциях, захватах пиршественных залов новыми вождями – что в точности соответствует картине, нарисованной в поэме.
Таким образом, перевод Толкина подтверждает, что его защита «Беовульфа» как художественного целого не была отрицанием его связи с историей. Напротив, он видел в поэме не хаотичный набор архаичных деталей, а глубоко продуманное художественное осмысление реальных трагических событий прошлого, где историческая достоверность достигается не буквальным следованием фактам, а верностью духу эпохи и универсальным законам человеческой драмы.
Эссе Дж. Р. Р. Толкина «Беовульф: Чудовища и критики» стало очередной научной публикацией на тему древней поэмы, но культурным и академическим явлением. Оно совершило методологический переворот, заставив увидеть в древнем эпосе целостное произведение искусства, чья архитектоника и символика подчинены единому замыслу. Реабилитировав чудовищ как философски значимых персонажей и интерпретировав структуру поэмы как тонкий баланс юности и старости, Толкин задал новые векторы для нескольких поколений филологов, историков и переводчиков. Его работа вывела «Беовульфа» из узкоспециальных штудий в пространство большой литературы, доказав, что поэма, повествующая о битвах с драконами, говорит с читателем о самом главном: о бренности бытия, о мужестве перед лицом неминуемого поражения и о непреходящей ценности человеческого подвига
5. Лингвистическое наследие «Беовульфа»: От звука к смыслу
Влияние древнеанглийской поэтической традиции, и «Беовульфа» в частности, выходит за рамки простого заимствования слов для Рохана. Толкин перенял саму поэтическую технику древних сказителей.
Аллитерация: Как и в «Беовульфе», где строки связываются повторяющимися начальными согласными, речь многих персонажей Толкина, особенно рохиррим, насыщена аллитерацией. Речь Теодена перед битвой на Пеленнорских полях – «Fell deeds awake: fire and slaughter! spear shall be shaken, shield be splintered, a sword-day, a red day, ere the sun rises!» – построена по всем канонам древнегерманского эпического стиха.
Кеннинги: Толкин использует метафорические перифразы, характерные для древнескандинавской и англосаксонской поэзии. Например, Гэндальф называет себя «слугой Тайного Огня» (Servant of the Secret Fire), а короли Рохана погребены в «девяти курганах под своими стягами» (under their mounds and their banners).
Эта стилистическая архаизация служит для создания «эпического расстояния», погружая читателя в атмосферу древнего героического века.
Полифония Средиземья:
Лингвистическое творчество Толкина представляет собой уникальный феномен в мировой литературе. Он построил Средиземье не как монолит, говорящий на одном языке, а как многоголосую и многоязычную вселенную. Каждый народ – эльфы, гномы, люди Рохана, хоббиты – обладает своим уникальным лингвистическим «портретом», который отражает его историю, психологию и место в мире.
Через имена, языки и стилистические приемы, укорененные в таких древних текстах, как «Беовульф», Толкин осуществил свою главную цель – создание «мифологии для Англии». Он оживил язык, превратив его из инструмента описания в самого главного персонажа и основу всего повествования. Без понимания этой лингвистической глубины картина Средиземья остается неполной, ведь для Толкина, как он сам признавался, история была всего лишь следствием, «листом, что покрывает ствол дерева, имя которому – Язык».
6. Имена и язык (лингвистический анализ):Толкин, будучи профессиональным филологом, придавал огромное значение лингвистическому аспекту своего творчества. Его владение древними языками, в особенности древнеанглийским и древнеисландским, оказало существенное влияние на создание языков и топонимики Средиземья.
Имена собственные:
Бэггинс (Baggins):
Чтобы в полной мере понять глубину и остроумие, заложенные в именах персонажей Дж. Р. Р. Толкина, необходимо помнить, что их создатель был в первую очередь блестящим филологом, для которого язык был не просто инструментом, а самой основой мифотворчества. Его профессиональное владение древними и современными языками, включая диалекты Британии, превращало каждый ономастический выбор в многослойный акт творчества, где имя становилось ключом к характеру, судьбе и даже социальному статусу героя. Ярчайшим примером этой тонкой лингвистической игры служит имя хоббита, с которого началось путешествие в Средиземье для миллионов читателей, – Бильбо Бэггинс. Фамилия «Baggins», на первый взгляд простая и даже нарочито обыденная, при ближайшем рассмотрении оказывается настоящей сокровищницей филологических находок и социальных аллюзий. Как отмечает исследователь творчества Толкина Том Шиппи, «Baggins» фонетически чрезвычайно близка к словам из диалекта Хаддерсфилда в Йоркшире – bæggin или bægginz, что означает «основательная еда, перекус между основными приемами пищи», особенно чаепитие во второй половине дня. Эта связь неслучайна, ведь Толкин, работавший в начале своей карьеры в Лидском университете в Йоркшире, был хорошо знаком с этим говором и даже написал предисловие к глоссарию диалекта Хаддерсфилда, изданному в 1928 году. Таким образом, сама фамилия прочно связывает своего носителя с миром домашнего уюта, размеренности и пристрастия к обильным трапезам, что абсолютно точно характеризует Бильбо в начале «Хоббита».
Однако лингвистический анализ на этом не исчерпывается. Фонетически «Baggins» искусно вписана Толкином в класс типично английских фамилий, оканчивающихся на «-kins» – таких как Диккенс, Дженкинс или Хаггинс. Эти фамилии, как подмечает Шиппи, исторически образованы от личных имен с помощью уменьшительного суффикса, что придает им оттенок некой патриархальной простонародности. Интересно, что Толкин использует фамилию Хаггинс для одного из троллей в той же книге, что указывает на его сознательную игру с этим ономастическим пластом. Другим важнейшим лингвистическим и сюжетным якорем является название дома Бильбо – «Бэг-Энд» (Bag End). Это не вымышленное название, а реальное имя фермы тетки Толкина, которая, что символично, располагалась в тупике. Шиппи обращает внимание на то, что это место называется в Англии французским термином «cul-de-sac», который он иронично характеризует как «глупое словечко» и проявление «французоориентированного снобизма». Эта деталь становится отправной точкой для блестящей социальной сатиры, воплощенной в другой ветви семейства – Сэквил-Бэггинсах.
Стремясь к социальному возвышению, Сэквил-Бэггинсы, по меткому замечанию Шиппи, пытаются «офранцузить» свою фамилию. Английское «Sack» и французское «ville» в составе их фамилии являются буквальным переводом-калькой с английского «Bag» и древнеанглийского «-end» (как в Bag End), что в совокупности означает «Мешок-город» – возвышенный, но лишенный смысла эквивалент простой «Замяти мешков». Это тонко высмеивает буржуазные амбиции и претензии на аристократизм. Журналист Мэттью Дэннисон проводит еще одну изящную параллель, сравнивая одержимость Лобелии Сэквил-Бэггинс заполучить Бэг-Энд с историей аристократки и писательницы Виты Сэквил-Вест, которая страстно желала, но не смогла унаследовать родовое поместье Ноул-Хаус. Таким образом, имя «Sackville-Baggins», которое Шиппи даже называет «аномалией в Средиземье и провалом в тоне», служит Толкину мощным инструментом критики социальных условностей. Завершая этот лингвистический портрет, Шиппи предлагает изящную формулу: если Бэггинс с его любовью к комфорту представляет собой буржуа, то его противоположностью является грабитель, проникающий в чужие дома. И именно в «Хоббите» Бильбо просят стать взломщиком (burglar) логова Смауга, что делает Бэггинсов и Сэквил-Бэггинсов, по выражению ученого, «связанными противоположностями». Через призму одного лишь имени Толкин раскрывает целый мир смыслов – от йоркширского диалекта до острой социальной сатиры, демонстрируя, как лингвистическая эрудиция может быть превращена в фундамент литературного шедевра.
Гэндальф (Gandalf):
Чтобы в полной мере оценить лингвистическое мастерство Дж. Р. Р. Толкина, недостаточно просто анализировать придуманные им эльфийские языки; необходимо обратить взгляд на те имена, что он заимствовал из древних мифологий, ибо в них заключена глубинная связь его мира с германской и скандинавской эпической традицией. Ярчайшим примером такого осмысленного заимствования является имя Гэндальфа, одного из центральных персонажей как «Хоббита», так и «Властелина Колец». Будучи профессиональным филологом, Толкин не случайно извлек это имя из древнескандинавского эпоса «Старшая Эдда», а именно из «Прорицания вёльвы» (Völuspá), где в перечне гномов (Dvergatal) фигурирует Гандавльв (Gandálfr). Лингвистический разбор имени раскрывает его суть: оно состоит из двух элементов – «gandr», что может означать «посох» или «магический жезл», и «álfr», то есть «эльф». Таким образом, имя Gandálfr переводится как «Эльф с посохом» или «Посох-эльф». Это этимологическое значение идеально отражает природу персонажа в восприятии людей Средиземья: для них он – таинственный странник, наделенный магической силой, которую олицетворяет его посох, и не принадлежащий к миру смертных, что ассоциируется с эльфами. Сам Толкин подтверждал эту трактовку в своих письмах, отмечая, что на языках людей Севера его имя означало «Эльф Волшебного Жезла». Интересно, что в ранних черновиках «Хоббита» Толкин предназначал имя Гэндальф для предводителя гномов, впоследствии ставшего Торином Дубощитом, а самого волшебника звал Бладортин. Однако в итоге он вернулся к мифологической основе, что подчеркивает его изначальный замысел вплесть нити скандинавского эпоса в ткань собственной легенды.
Это заимствование не было простой данью уважения или случайным выбором. Называя одного из могущественных Истари (Майар, посланных Валар для противодействия Саурону) именем гнома из древнего пророчества, Толкин сознательно создавал архетип, восходящий к образу Одина в его ипостаси Вечного Странника – старца в широкополой шляпе, с посохом и длинной белой бородой, ищущего знания и мудрости по всему миру. Толкин и сам в письме 1946 года признавался, что мыслил Гэндальфа как «одинического странника». Этот образ был хорошо знаком ему по скандинавским сагам и оказал решающее влияние на внешний облик и сущность волшебника. Однако Толкин не просто копировал архетип, но и углубил его, наделив христианской символикой. Смерть Гэндальфа в бою с балрогом в Мории и его последующее возвращение в преображенном облике – уже как Гэндальфа Белого – многими исследователями трактуется как аллюзия на смерть и воскресение Христа. Философ Питер Крифт, анализируя этот триптих, видел в Гэндальфе пророческое служение, одну из трех ипостасей мессианской роли наряду со жреческой, воплощенной во Фродо, и царственной, представленной Арагорном. Таким образом, простое, на первый взгляд, имя, заимствованное из древнего источника, становится многослойным символом, связывающим воедино скандинавскую мифологию, христианскую традицию и уникальное толкиновское мифотворчество, демонстрируя, как филологическая эрудиция может быть преобразована в фундамент одного из величайших литературных персонажей.
Рохан (Rohan):
Одним из ярких примеров лингвистической мысли Дж. Р. Р. Толкина является королевство Рохан, чья топонимика и антропонимика практически целиком построена на фундаменте древнеанглийского языка. Толкин, будучи выдающимся филологом-германистом, не просто заимствовал отдельные слова, но и наделил культуру рохиррим сложной системой образов, напрямую отсылающих к англосаксонской традиции. Само название «Рохан» (Rohan), как вы верно отметили в своем наброске, является адаптированной формой слова «Роханд» (Rochand), происходящего от синдаринского *rokkō – «ездовая лошадь» (квенья rocco, синдарин roch) с добавлением суффикса -and, характерного для названий земель (как в Белерианд или Оссирианд). Таким образом, этимология имени королевства напрямую указывает на его сущность – это «Земля Всадников». Однако Толкин пошел еще дальше, создав для рохиррим их собственное, внутреннее название страны – «Риддермарк» (Riddermark), которое он, в рамках своей литературной условности, представляет как перевод на древнеанглийский их собственного языка. «Марк» (Mark) – это древнеанглийский термин, обозначающий пограничные земли, а «Риддер» (Rider) – прямо отсылает к всадникам. Это название является сознательной аллюзией на историческое королевство Мерсия, регион в центральной Англии, где Толкин жил и чей диалект древнеанглийского он использовал для языка рохиррим. Эта связь подчеркивает глубокую символическую параллель, которую автор провел между конным народом Средиземья и англосаксонскими воинами, своего рода «исправлением» истории: в его мире у англосаксов, проигравших в реальности битву при Гастингсе нормандской кавалерии, появились свои собственные, непобедимые всадники.
Эта лингвистическая модель последовательно выдерживается во всех элементах культуры Рохана. Столица, Эдорас (Edoras), в переводе с древнеанглийского означает «ограждения» или «дворы». Золотой Чертог королей, Медусельд (Meduseld) – это «чертог меда», прямой аналог Хеорота из «Беовульфа». Даже описание Медусельда у Толкина дословно повторяет строку из англосаксонского эпоса: «свет его сияет над многими землями». Имена правителей и героев также выдержаны в этой традиции: сам король Теоден (Þēoden) – это древнеанглийское слово для «вождя» или «короля»; его племянник Эомер (Ēomær) несет в своем имени корень ēoh, «конь», а его сестра Эовин (Ēowyn) сочетает «коня» (ēo) и «радость» (wynn), что можно истолковать как «радость коня» или «возлюбленная лошадь», идеально отражая ее глубокую связь с культурой Рохана. Военная структура также построена на древнеанглийской лексике: основная тактическая единица, конный отряд, называется «эоред» (ēored). Эта тотальная лингвистическая адаптация служит не просто стилистическим приемом. Толкин, как филолог, создавал иллюзию перевода: в рамках легендариума все персонажи говорят на всеобщем языке, Вестроне, который он «переводит» на современный английский. А язык рохиррим, будучи его древним родственником, он «переводит» на древнеанглийский, тем самым создавая для читателя ощущение его архаичности и эпической возвышенности. Таким образом, через призму лингвистического анализа Рохан предстает не просто страной всадников в Средиземье, но и своего рода литературным памятником англосаксонской Англии, где тщательно подобранные древнеанглийские имена и названия становятся ключом к пониманию всей культурной и исторической глубины этого народа.
Эовин (Éowyn):
Образ Эовин, племянницы короля Теодена, является одним из самых психологически сложных и лингвистически насыщенных во всем легендариуме Толкина. Ее имя и история служат блестящим примером того, как филологическая глубина и мифологическое мышление автора сплетаются воедино, создавая персонажа, чья сущность неотделима от языка, на котором она говорит и которым названа.
Этимология имени: Между долгом и свободой
Имя Эовин (Éowyn), как верно отмечено в наброске, является прямой отсылкой к культурному коду Рохана. Оно состоит из двух древнеанглийских корней:
Éo (др.-англ. eoh) – «боевой конь», «скакун».
Wyn (др.-англ. wynn) – «радость», «наслаждение», «блаженство».
Таким образом, имя Éowyn можно перевести как «Радость Коня» или «Тот, кто находит счастье в лошадях». Эта этимология идеально вписывает Эовин в контекст рохиррим, народа всадников, чья культура, экономика и сама идентичность построены вокруг лошадей. Однако у Толкина ни одно имя не бывает просто описательным ярлыком; оно всегда содержит в себе семя судьбы персонажа. Для Эовин, томящейся в «золотой клетке» Эдораса, ее имя становится и символом принадлежности к ее народу, и напоминанием о свободе, которую олицетворяет для нее стремительная скачка по равнине. Ее тоска по битве – это не просто жажда славы, но и стремление к тому «блаженству» (wynn), которое заключено для нее в активном действии, в движении, в символическом единстве с «конем» (éo).
Альтер-эго Дернхельм: Лингвистика скрытой идентичности
Ключевым моментом в арке Эовин является ее решение отправиться на войну под видом воина по имени Дернхельм (Dernhelm). Это имя, как и ее настоящее, является не случайным псевдонимом, а тщательно подобранным толкиновским архетипом.
Dern (др.-англ. dierne, derne) – «скрытый», «тайный», «сокровенный».
Helm (др.-англ. helm) – «шлем», «защита», а также метафорически «защитник».
Следовательно, Dernhelm означает «Тайный Защитник». Это имя работает на нескольких уровнях:
Буквальный уровень: Оно описывает ее физическое состояние – женщину, скрытую доспехами и шлемом мужчины-всадника.
Символический уровень: Оно отражает ее внутреннюю, скрытую от всех сущность – воительницу, чья истинная сила и предназначение до поры до времени сокрыты под маской «слабой» женщины, обреченной на ожидание в тылу.
Провиденческий уровень: Эовин действительно становится «тайным защитником» не только для своего дяди Теодена, но и для всего Гондора, ибо ее удар оказывается решающим в уничтожении Предводителя Назгулов.
Этот лингвистический выбор демонстрирует, как Толкин использует древнеанглийский язык для создания многомерной драматургии, где имя становится сюжетным устройством.
Диалог с пророчеством: разрешение мифа
Самый знаменитый эпизод с участием Эовин – ее поединок с Королем-чародеем Ангмара – построен на лингвистической игре, уходящей корнями в шекспировского «Макбета». Назгул провозглашает: «Ни один мужчина не убьет меня» («No living man may hinder me»). Эовин, сбрасывая шлем, отвечает: «Но я – не мужчина! Я – женщина, Эовин, дочь Эомунда!».
Толкин, будучи знатоком древнегерманских языков, прекрасно понимал семантическую двусмысленность слова «man». В древнеанглийском и других германских языках оно могло означать как «человек» (род homo), так и «мужчина» (род vir). Пророчество, данное Глорфинделем, было истолковано буквально и ограничительно, как относящееся только к мужчинам. Эовин, будучи носительницей языка и культуры, интуитивно (или провиденчески) оспаривает это узкое толкование. Ее фраза – это не просто гордое заявление; это лингвистический акт, расширяющий границы пророчества и вносящий в него новое, женское измерение. Таким образом, ее победа – это триумф не только меча, но и слова, точного понимания его скрытых возможностей.
Эволюция идентичности: От «щитоносицы» к «целительнице»
Лингвистический анализ был бы неполным без учета трансформации Эовин. В начале она называет себя «щитоносицей» (shieldmaiden), что является калькой с древнескандинавских skjaldmær – женщин-воительниц в сагах. Этот термин четко определяет ее амбиции и самовосприятие.
Однако после духовного исцеления в Домах Исцеления ее самоидентификация меняется. Она говорит Фарамиру: «Я больше не буду щитоносицей… Я буду целительницей». Смена «профессии» с метафорически «разрушительной» (воин) на «созидательную» (целитель) знаменует ее внутреннее взросление и обретение гармонии. Она не отказывается от своей силы, но находит для нее новое, более мудрое и плодотворное применение. Ее союз с Фарамиром, чье имя означает «Достающий Мудрость», лингвистически закрепляет этот переход к новой, осмысленной жизни.
Эовин Толкина – это персонаж, чья сущность высечена из древнеанглийского словаря и пронизана филологической логикой. Ее имя, ее псевдоним, ее ключевая реплика в бою и ее окончательный выбор – все это звенья одной лингвистической цепи. Через ее образ Толкин не просто создает сильную женскую character, но и демонстрирует, как язык формирует идентичность, определяет судьбу и служит полем битвы за смыслы. Эовин является живым воплощением связи его литературного творчества с древними языками, показывая, что в мире Средиземья за каждым именем скрывается целая вселенная смысла, ожидающая своего часа для воплощения.
Реальный прообраз Эорвин – Дева Щита
Щитоносица (в оригинале – skjaldmær) – это образ женщины-воина, взятый из скандинавского фольклора и мифологии. Данный термин, skjaldmær, наиболее часто встречается в сагах, например, в "Саге о Хервёр и Хейдреке". Упоминания о женщинах-воинах можно найти и в латинском труде "Деяния данов". Важно отметить, что и саги, и "Деяния данов" появились уже после завершения эпохи викингов и считаются произведениями художественной литературы. Более ранние упоминания о женщинах-воинах встречаются в римских источниках поздней античности. Часто их связывают с мифическими валькириями, которые могли служить прототипом для образа щитоносиц, или же они могли быть вдохновлены сказаниями об амазонках.
Этимологически термин "щитоносица" является переводом с древнескандинавского skjaldmær. В связи с тем, что в древнескандинавском языке отсутствует прямое соответствие слову "воин", а такие слова, как drengr, rekkr и seggr, могли обозначать воинов любого пола, сложно утверждать, какое значение этот термин имел для носителей языка. Исследовательница Джудит Джеш изучала происхождение этого слова. Хотя она обнаружила, что оно использовалось для описания и амазонок, и женщин-воинов в сагах, чаще всего восточного происхождения, убедительных доказательств его существования в эпоху викингов обнаружено не было. Возможно, оно вошло в древнескандинавский язык в XIII веке. Кроме того, это слово встречается в названиях кораблей и в качестве прозвища поэта.
В современном языке термин может использоваться для обозначения любой женщины-воина, но также и для обозначения конкретного типа персонажей, встречающихся в сагах. Иногда этим термином ошибочно называют гипотетических женщин-воинов эпохи викингов. Джеш призывает избегать такого использования в научных работах, во избежание путаницы между литературными и реальными щитоносицами. Иногда в современном языке этот термин является синонимом слова "валькирия". Например, Брюнхильд, валькирия, называет себя щитоносицей в "Саге о Вельсунгах", однако этот текст был создан в XIII веке, а не в эпоху викингов. В эпоху викингов валькирии подавали напитки в Валгалле и выбирали павших в битве, но не были воительницами в том же смысле, что и в сагах.
В скандинавских сагах упоминаются такие щитоносицы, как Брюнхильд из "Саги о Вёльсунгах", Хервёр из "Саги о Хервёр и Хейдреке", Брюнхильд из "Саги о Босе и Херрауде" и шведская принцесса Торнбьёрг из "Саги о Хрольфе, сыне Олафа". Принцесса Хед, Висна, Лагерта и Веборг – женщины-воины, упоминаемые в "Деяниях данов".
"Саге о Хервёр" повествуется о двух отважных женщинах-воинах. Первая Хервёр с юных лет предпочитала мужские занятия, нападая на путников в лесу, маскируясь под мужчину. Со временем она завладела проклятым мечом Тирфингом из захоронения отца и стала морской разбойницей. Впоследствии она оставила разбой и вышла замуж. Ее внучка, также названная Хервёр, возглавляла войска в сражении против гуннов. Несмотря на описание её доблести в саге, она погибла в битве, получив смертельное ранение от врага.
Саксон Грамматик писал о том, что женщины участвовали в битве при Бравалле в 750 году на стороне датчан:
"Из города Сле под предводительством военачальников Хетты (Хейды) и Висны, вместе с Хаконом Щекой, выступил Тамми Мореход. Эти предводительницы, обладавшие женским телом, но мужским духом, отличились в сражении. Вебиорг также была охвачена воинственным духом, и её сопровождали Бо (Буи) Брамасон и Брат Ют, полные жажды битвы."
В саге о Вёльсунгах Брюнхильда Будладоттир и Гудрун Гьюкадоттир, соперницы в любви, ярко иллюстрируют различие между женщиной-воином и аристократкой, придерживающейся традиционных ролей. В отличие от последних, Брюнхильда ставит честь превыше всего, подобно воинам-мужчинам. Когда она становится женой Гуннара, брата Гудрун, вместо Сигурда, которого изначально любила, она выражает своё разочарование в стихах, сопоставляя доблесть обоих героев:




