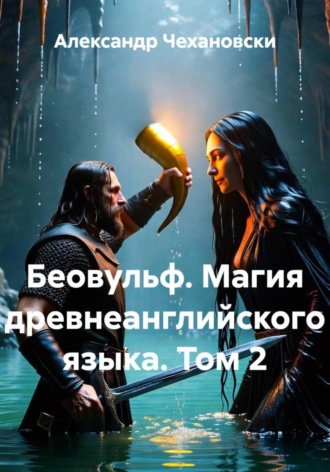
Полная версия
Беовульф. Магия древнеанглийского языка. Том 2
Наконец, фигура Галадриэль как провидицы отсылает к архаическим представлениям о вещих женщинах и хранительницах древнего знания. Ее Зеркало показывает «вещи, которые были, и вещи, которые есть, и вещи, которые, возможно, еще случатся». Этот дар прозрения роднит ее с образом мудрой Мелиан из более ранних эпох Средиземья, а через него – с германскими и кельтскими пророчицами. Хотя в «Беовульфе» подобный персонаж не выведен явно, сама поэма насыщена ощущением судьбы (wyrd), которой подвластны и герои, и короли. Галадриэль, с ее знанием прошлого и предвидением грядущего, становится олицетворением этой связи времен, голосом самой истории и судьбы Средиземья.
Таким образом, Галадриэль предстает перед нами, не только в обрае эльфийской королевы, но и сложного синтеза архетипов, почерпнутых Толкином из глубокого изучения древних эпосов. В ее образе оживают достоинство и мудрость Вальхтеов, ритуальная щедрость древних королей, трагическое бремя власти и древняя мудрость провидцев, что делает ее одним из самых глубоких и «беовульфовских» персонажей во «Властелине Колец».
Теоден, король Рохана: Архетип короля-воина
В галерее властителей Средиземья, созданной Дж. Р. Р. Толкином, Теоден, король Рохана, занимает особое место, выступая живым воплощением героического идеала, уходящего корнями в англосаксонский эпос, и в частности, в поэму «Беовульф». Его история не только повесть о воинской доблести, но и глубоко психологическая драма о падении и возрождении. Сказ о том, как растленный советник может ослабить могущественного короля, и о том, как духовное исцеление способно вернуть к жизни не только человека, но и целое королевство. Образ Теодена служит Толкину мостом, перекинутым из древнего германского прошлого в его собственный легендариум, и наглядной иллюстрацией тех ценностей, которые он считал стержневыми для эпической традиции.
Когда читатель впервые встречает Теодена в «Двух крепостях», перед ним предстает не гордый владыка Марки, а дряхлый, сломленный старик, чья воля парализована коварным советником Гримой Червеустом. Этот образ напрямую перекликается с мотивом «слабого короля» или «короля в беде», столь характерным для средневековой литературы, где благополучие народа напрямую зависит от силы его предводителя. Грима, «червь языка», чье имя говорит само за себя, является орудием колдовства Сарумана, отравляющим не столько тело короля, сколько его дух, навязывая ему яд отчаяния, безволия и подозрительности. В этом состоянии Теоден позволяет своему королевству приходить в упадок, а угрозе Сарумана – разрастаться. Однако, подобно тому как Беовульф является из-за моря, чтобы избавить Хеорот от чудовища, в Эдорас является Гэндальф, исполняя роль не только волшебника, но и «исцелителя душ». Его противостояние с Гримой – это битва за разум короля, и его победа знаменует мгновенное преображение Теодена. Сбросив с себя оковы чужой воли, король «выпрямляется», буквально и метафорически, обретая былую мощь и ясность мысли. Его исцеление символизирует восстановление естественного порядка и справедливости: законный правитель вновь берет бразды правления в свои руки, изгоняя лживого искусителя.
Возрожденный Теоден – это архетип короля-воина, чей долг – лично вести свой народ в бой и разделять с ним все опасности. Как и Беовульф, который до конца своих дней оставался защитником Гаутланда, Теоден, несмотря на преклонный возраст, вновь садится на коня, чтобы возглавить рохиррим в битве у Хельмовой Пади, а затем и на Пеленнорских полях. Его речь перед решающей атакой, наполненная образами «дня меча», «красного дня» и призывом «Вперед, вперед! В Гондор!», является прямым наследником речей героев древнего эпоса, призванных воодушевить воинов перед лицом неминуемой смерти. Толкин, будучи филологом, сознательно выстраивает этот образ, опираясь на концепцию «северной отваги» (Northern courage), которую он выделял в «Беовульфе» и сагах – готовности сражаться до конца, даже не надеясь на победу, просто потому что это долг.
Кульминацией арки Теодена становится его гибель на Пеленнорских полях. Падение его коня Снежногрива и то, что король оказывается придавлен им, – это сознательная отсылка Толкина к исторической хронике: подобная участь постигла короля вестготов Теодориха I в битве на Каталаунских полях. Эта параллель укрепляет связь Рохана с историей германских народов. Смерть Теодена, как и смерть Беовульфа, исполнена трагического величия. Он погибает, сражаясь с предводителем назгулов, величайшим из слуг Саурона, и его последние слова обращены не к славе, а к его верному оруженосцу, хоббиту Мерри, что подчеркивает его человечность и отеческую заботу о своих подданных. Его падение не является напрасным: как и гибель Беовульфа в поединке с драконом, она мобилизует его народ и его преемника, Эомера, на окончательную победу.
Таким образом, образ Теодена служит Толкину многогранным инструментом. Он является:
Литературной реинкарнацией эпического короля-воина из «Беовульфа», воплощающего идеалы личной храбрости, долга и единения с народом.
Символом духовного возрождения, где магическое исцеление Гэндальфа метафорически представляет собой изгнание уныния и возвращение к моральной ясности.
Контрастной фигурой по отношению к другому правителю – Денетору, Наместнику Гондора. Если Теоден, пройдя через отчаяние, находит в себе силы для самопожертвования, то Денетор, столкнувшись с аналогичным испытанием, выбирает путь гордыни и самоубийственного отчаяния.
Через призму истории Теодена Толкин не просто заимствует образы из «Беовульфа», но и ведет с ними диалог, исследуя вечные темы ответственности власти, природы истинного мужества и той роли, которую надежда и воля играют в судьбе целого народа.
Таким образом, персонажи «Властелина Колец» предстают, как сложные и многогранные архетипы, чьи корни уходят в глубь мифологической и литературной традиции, ключевой частью которой является «Беовульф». Толкин, будучи филологом, ведет непрерывный диалог с прошлым: он не копирует, а переосмысливает древние образы, наполняя их новой психологической и философской глубиной. Рохан и его король Теоден становятся воплощением «северной отваги» и трагического долга правителя, знакомых по англосаксонскому эпосу. Грендель , что трансформируется из слепого чудовища поэмы в трагическую фигуру Голлума, чье зло рождено не мистическим проклятием, а внутренним разладом и развращающей силой власти, делая его архетипическим «теневым двойником» для главного героя. Даже всепоглощающее зло Саурона, наследуя эпическому масштабу врагов вроде дракона из «Беовульфа», обретает черты безличной, тоталитарной системы, актуальной для XX века. Через эту призму «Властелин Колец» предстает не только великим фэнтези, но и мостом, соединяющим современного читателя с вечными вопросами о добре и зле, героизме и жертве, власти и искуплении, которые тысячелетиями волновали умы – от безымянного сказителя «Беовульфа» до самого Дж. Р. Р. Толкина.
3. Детали и образы

Имена и язык:
Для Дж. Р. Р. Толкина, профессионального филолога и оксфордского профессора, язык был не просто инструментом повествования, но самой основой мифотворчества. Его знаменитое утверждение о том, что «„Властелин Колец“ был написан в первую очередь для того, чтобы создать мир, в котором мог бы существовать язык квенья», – не метафора, а отражение его творческого метода. Средиземье родилось из слова, и его лингвистическая структура столь же сложна и продумана, как и его география или история. Толкин придавал именам и языкам первостепенное значение, видя в них сгустки истории, культуры и мифологии. Его подход был уникален: он не просто придумывал отдельные слова для правдоподобия, а создавал целые языковые семьи с тысячелетней внутренней историей, фонетическими законами и диалектными различиями, вдохновляясь глубинными пластами реальных лингвистических традиций, особенно древнегерманских, к которым принадлежит и поэма «Беовульф».
1. Философия «глоссопеи»: Язык как фундамент мифа
Толкин называл создание языков своим «тайным пороком» (A Secret Vice). Однако для него это была не игра, а серьезная художественная и научная деятельность – глоссопея (glossopoeia). Он был убежден, что убедительный и эстетически полноценный искусственный язык не может существовать в вакууме. Ему необходима мифология – история народа, который на нем говорит, его верования, поэзия и эпические сказания. Таким образом, язык и миф у Толкина неразрывно связаны: язык рождает легенды, а легенды, в свою очередь, влияют на развитие языка. Эльфийские языки, например, были для него не набором правил, а живыми организмами, которые менялись на протяжении веков: делились на диалекты, заимствовали слова, проходили через фонетические сдвиги – в точности как реальные исторические языки.
Эта философия пронизывает все его творчество. Имена персонажей и названия мест – это не произвольные ярлыки, а семантические коды, раскрывающие сущность их носителей. Чтобы понять замысел Толкина, необходимо рассматривать их не в переводе, а в оригинальном лингвистическом контексте, который он создал.
2. Лингвистический ключ к Рохану
Наиболее прямое и очевидное влияние «Беовульфа» и древнеанглийской (англосаксонской) традиции проявляется в королевстве Рохан и его обитателях, рохиррим. Толкин применяет здесь блестящий литературный прием – лингвистическую проекцию. В рамках его художественного мира все персонажи говорят на вестроне (Всеобщем Языке), который в повествовании «переведен» на современный английский. Однако язык рохиррим, будучи древним родственником вестрона, «переводится» Толкином на древнеанглийский.
Этот выбор глубоко символичен. Рохан – это конная культура, аристократическая и воинственная, чьи ценности – верность, доблесть и долг – напрямую ассоциируются Толкином с идеалами англосаксонских воинов из «Беовульфа». Таким образом, используя древнеанглийский, Толкин наделяет Рохан ореолом древности, эпического величия и «северной отваги».
Топонимика и антропонимика: Название «Рохан» (Rohan) происходит от синдаринского Rochand («земля коней»), но его внутреннее, самоназвание – Риддермарк (Riddermark) – это калька с древнеанглийского riddena-mearc, «пограничная страна всадников». Сами рохиррим называют себя эорингас (Éorlingas) – «народ Эорла», а свою страну – Эо-марк (Éo-marc), где éo – древнеанглийское «конь».
Имена правителей: Имя короля Теодена (Þéoden) – это древнеанглийское слово, означающее «вождь», «правитель народа». Его племянник Эомер (Éomær) и племянница Эовин (Éowyn) содержат в своих именах корень éo («конь»), что идеально характеризует их связь с культурой Рохана. Имя Эовин, например, можно интерпретировать как «радость коня» или «возлюбленная лошадей».
Термины: Основная тактическая единица рохиррим – эоред (ēored), древнеанглийское слово для «конного отряда». Их знаменитые кони, mearas, также носят имя, восходящее к древнеанглийскому mearh («конь, жеребец»).
Через эту лингвистическую призму Рохан становится литературной реинкарнацией англосаксонской Англии, но – и в этом заключается толкиновская «мечта филолога» – Англии, сохранившей свою «всадническую» культуру и не покоренной нормандскими завоевателями.
3. За пределами перевода: Эльфийские языки, как произведение искусства
Если лингвистическое оформление Рохана – это мастерское использование реального языка в художественных целях, то создание эльфийских языков – квенья и синдарина – это акт чистой глоссопеи, не имеющий аналогов по своему масштабу и глубине.
Квенья. Язык высокой поэзии :
Квенья, язык Высших Эльфов, был первым языком, который Толкин начал создавать около 1910 года. Толкин редко напрямую использовал слова из существующих языков при создании квенья. Заметным исключением служит имя Эарендель/Эарендил, почерпнутое из древнеанглийской поэзии IX века, монаха и поэта- Кюневульфа. Тем не менее, на язык Высших Эльвоф оказал влияние финский, что заметно, если внимательно изучить лексику квенья. Ряд слов, таких как tul- ("прибывать") и anta- ("давать"), явно имеют финские корни. Другие сходства кажутся заимствованиями, но это не так: например, финское "kirja" ("книга") и квенийское cirya ("корабль") являются независимыми образованиями. Валарский и квенийский корень kir- был придуман Толкином и является источником cirya. Латинское aurōra ("рассвет") и квенийское aure ("мгновение особого значения, особый день, праздник") не имеют общей этимологии. Квенья aurë берет начало от корня ur- в валарском и кендерском языках. Несмотря на то , что источником вдохновение для эльфийского языка, послужил финнский, можно проследить германское в грамматической структуре (окончание -r в именительном падеже множественного числа, напоминающее скандинавские языки) или в фонетике. Не смотря на грамматическое влияние, слова в квенья не имеют прямого заимствования из германских языков. Например Arda, что переводиться , как название "региона" на квенья, случайно совпадает с германским Erde ("земля"), фактически восходя к корню gar- из валарского и кендерского языков. Том Дюбуа и Скотт Меллор предполагают, что название квенья могло быть вдохновлено названием Квен, языком, близким к финскому, однако Толкин об этом не упоминал.
От финского квенья унаследовал плавность, обилие гласных, агглютинативную структуру (присоединение суффиксов к неизменяемой основе) и некоторые грамматические черты, например, случаи местоположения (-sse «в», -nna «к», -llo «из»). От латыни – ощущение благородства, древности и статуса языка науки, литургии и высокой поэзии.
Фонетика: Квенья фонетически элегантен. В нем нет грубых скоплений согласных в начале слов, а система гласных и дифтонгов придает ему мелодичность. Знаменитое прощание Галадриэли «Namárië» – это не просто текст, а демонстрация фонетического совершенства языка.
Внутренняя история: В легендариуме квенья – это язык эльфов, ушедших в Валинор (Благословенный Край). После возвращения в Средиземье нолдор-изгнанники стали использовать его как язык учености и церемоний, в то время как в быту перешли на синдарин. Эта диглоссия (сосуществование «высокого» и «низкого» языка) аналогична положению латыни в средневековой Европе.
Синдарин. Язык, как живая речь:
Синдарин – один из придуманных Дж.Р.Р. Толкином искусственных языков, предназначенных для его фэнтезийных произведений, действие которых разворачивается в Арде, главным образом в Средиземье. Этот язык является одним из эльфийских наречий.
На квенья слово "синдарин" означает "язык серых эльфов", поскольку именно на нём говорили серые эльфы Белерианда. Речь идёт об эльфах из Третьего клана, которые остались в Белерианде после Великого похода. Их язык со временем стал отличаться от наречия тех, кто уплыл за море. Предок синдарина – общий телерин, произошедший от общего эльдарского языка, которым пользовались эльдар до разделения, включая эльфов, последовавших за Вала Оромэ в Валинор. Ещё ранее эльдар общались на общем языке всех эльфов, известном как примитивный квенья.
В эпоху "Властелина колец", Третью Эпоху, синдарин стал основным языком эльфов в западной части Средиземья, и в произведениях Толкина он часто упоминается как "эльфийский язык". Когда нолдор, говорившие на квенья, вернулись в Средиземье, они перешли на синдарин. Квенья и синдарин, будучи родственными языками, имели много общих корней, но сильно различались грамматически и структурно. Синдарин считался более изменчивым, чем квенья, и в Первую Эпоху существовало множество его региональных диалектов. Дориатхин, язык Дориата (родины короля синдар Тингола), расценивался многими Серыми эльфами как наиболее благородная форма языка.
Во Вторую Эпоху многие нуменорцы свободно владели синдарином. Их потомки, дунэдайн Гондора и Арнора, продолжали использовать синдарин и в Третью Эпоху. Изначально для записи синдарина использовался Кирт, эльфийский рунический алфавит, но позднее его стали записывать с помощью Тенгвара ("буквы" на квенья) – письменности, изобретённой эльфом Феанором. Фонетика и некоторые грамматические аспекты синдарина основаны на валлийском языке, вследствие чего в нём наблюдаются мутации согласных, характерные для кельтских языков.
Гномы, редко обучавшие кого-либо своему языку, изучали квенья и синдарин для общения с эльфами, особенно с нолдор и синдарами. Однако к Третьей эпохе отношения гномов и эльфов охладели, и гномы перестали изучать их языки, предпочитая вестрон.
Фонетика и мутации: Подобно валлийскому, синдарин характеризуется сложной фонетикой, включающей многочисленные начальные мутации согласных, когда первый звук слова меняется в зависимости от грамматического контекста. Это придает ему текучесть и своеобразную «певучесть».
Считается, что основным источником вдохновения , для создания языка, послужил валлийский. Толкин писал, что хотел придать синдарину «лингвистический характер, очень похожий (хотя и не идентичный) на валлийский».
В синдарине фонема /f/ в позиции конца слова или перед /n/ реализуется как звук [v], хотя на письме всегда обозначается графемой ⟨f⟩. Для обозначения звука [f] используется диграф ⟨ph⟩, особенно в конце лексем (например, в слове "alph", означающем "лебедь") или когда он служит для представления ленизированного /p/ (как в "i-pheriannath", что значит "полурослики"), где звук [p] переходит в [f].
В древней форме синдарина существовал носовой звук, близкий к /ṽ/ (спирант m), обозначаемый как mh, аналогично общебриттскому и древнеирландскому языкам. Однако впоследствии этот звук в синдарине трансформировался и слился с фонемой /v/.
Звук, представленный графемой ⟨ch⟩ в синдарине, фонетически отличается от других велярных согласных, таких как ⟨c⟩, ⟨g⟩, ⟨w⟩ и прочие. Фонетически ⟨ch⟩ соответствует глухому увулярному фрикативному согласному /χ/.
Грамматика: В отличие от агглютинативного квенья, синдарин – язык в основном флективный, где грамматические отношения выражаются изменением самой основы слова (как в латыни или русском). Образование множественного числа часто происходит путем чередования гласных внутри слова (например, orod «гора» – eryd «горы»), что также роднит его с кельтскими языками.
Историческое развитие: Толкин разработал для синдарина сложную диалектологию. Он выделял диалекты Дориата (Дориатрин), Побережья (Фалатрин) и Северный синдарин, каждый со своими фонетическими и грамматическими особенностями. Это показывает, что он мыслил свои языки не как статичные конструкции, а как живые, развивающиеся сущности.
4. Сюжетные параллели и мотивы "Беовульф"/Толкин1. Героический путь и чудовища:
В основе как «Беовульфа», так и произведений Толкина лежит архетипический мотив героического пути. Герой отправляется в путешествие, полное опасностей и испытаний, чтобы сразиться со злом и защитить слабых. В «Беовульфе» герой прибывает в Хеорот, чтобы избавить датчан от чудовища Гриндэля, а затем сражается с матерью Гриндэля в её подводном логове и, в конце концов, с драконом, угрожающим его собственному народу. В «Хоббите» Бильбо Бэггинс отправляется в поход с гномами, чтобы вернуть сокровища, захваченные драконом Смаугом. Во «Властелине Колец» Фродо Бэггинс берет на себя миссию уничтожить Кольцо Всевластия, чтобы спасти Средиземье от Саурона.
Во всех трех произведениях герои сталкиваются с чудовищами, которые символизируют хаос, тьму и разрушение. Гриндэль и его мать – это порождения тьмы, живущие вне человеческого общества и угрожающие его существованию. Смауг – это воплощение жадности и разрушительной силы. Саурон – это абсолютное зло, стремящееся к установлению тирании и уничтожению всего доброго и светлого.
Интересно отметить, что в произведениях Толкина можно увидеть развитие мотива «спуска в ад», который также присутствует в «Беовульфе». Беовульф спускается в подводное логово матери Гриндэля, что является символическим путешествием в преисподнюю. В «Хоббите» гномы и Бильбо проходят через Мглистые горы, кишащие гоблинами и другими опасными существами, а затем спускаются в пещеру Смауга. Во «Властелине Колец» можно выделить несколько таких «спусков»: путешествие Братства Кольца через Морию, где они сталкиваются с балрогом, и, конечно же, путешествие Фродо и Сэма в Мордор, в самое сердце владений Саурона. Эти «спуски» символизируют столкновение героя с его собственными страхами и слабостями, а также необходимость преодоления тьмы внутри себя.
Общая тема всех этих историй – это борьба с хаосом и защита порядка. Герои, подобно Беовульфу, встают на защиту мира и справедливости, рискуя своей жизнью ради общего блага.
Дракон – один из самых ярких и запоминающихся образов в «Беовульфе» и произведениях Толкина. В «Беовульфе» дракон пробуждается из-за кражи чаши из его сокровищницы и обрушивает свой гнев на народ геатов. В «Хоббите» Смауг также приходит в ярость из-за кражи кубка Бильбо и уничтожает Озерный город. В обоих случаях дракон является символом жадности, разрушительной силы и слепой ярости.
Сокровища, охраняемые драконами, имеют не только материальную, но и символическую ценность. Они олицетворяют власть, богатство и славу, но также могут быть источником искушения и гибели. В «Беовульфе» говорится о «проклятии сокровищ», которое поражает тех, кто одержим жаждой наживы. Во «Властелине Колец» Кольцо Всевластия является высшим проявлением этой идеи. Оно дает своему владельцу огромную власть, но постепенно порабощает его волю и приводит к гибели.
В «Хоббите» Торин Дубощит, одержимый жаждой вернуть сокровища Эребора, становится все более жадным и упрямым, что в конечном итоге приводит к его гибели. Во «Властелине Колец» Боромир также испытывает искушение Кольцом и пытается отнять его у Фродо, что приводит к его падению и смерти. Эти примеры показывают, что сокровища, как и власть, могут быть опасными и разрушительными, если ими неправильно распорядиться.
Мотив сокровищ также связан с темой «возвращения украденного». Беовульф сражается с драконом, чтобы защитить свой народ и вернуть сокровища, которые принадлежали ему по праву. Гномы в «Хоббите» стремятся вернуть свои сокровища, захваченные Смаугом. Во «Властелине Колец» Фродо должен уничтожить Кольцо, чтобы лишить Саурона власти и вернуть мир в Средиземье.
Сокровища, таким образом, являются не только добычей или наградой, а символом справедливости и восстановления порядка.
Мотив гибели героя и «элегии»:
В «Беовульфе» гибель героя является одним из ключевых мотивов. Беовульф, победив дракона, погибает от его яда, оставив свой народ без защиты. Эта трагическая развязка подчеркивает неизбежность смерти и бренность всего сущего. Поэма пронизана элегическим настроением, оплакивающим ушедшую эпоху героев и величие прошлого.
Во «Властелине Колец» также присутствует мотив гибели героя, хотя и не в столь явной форме. Смерть Боромира, падение Гэндальфа в пропасть Мории, гибель Теодена – все эти события наполнены печалью и скорбью. Даже уничтожение Кольца и победа над Сауроном не приносят полного удовлетворения, так как знаменуют собой конец эпохи эльфов и начало господства людей.
Падение Голлума в жерло Роковой горы вместе с Кольцом Всевластия можно рассматривать как своеобразную «гибель героя наоборот». Голлум, одержимый Кольцом, погибает вместе с ним, освобождая Средиземье от зла. Его смерть, хотя и отвратительна, является необходимой жертвой для спасения мира.
Толкин, как и автор «Беовульфа», умело создает атмосферу утраты и ностальгии по ушедшему величию. В его произведениях чувствуется элегический тон, оплакивающий исчезновение старых порядков и наступление новой эры. Эта тема особенно ярко проявляется в сценах, связанных с уходом эльфов в Валинор и разрушением старых королевств.
Мотив гибели героя и элегическое настроение подчеркивают важность памяти о прошлом и необходимости сохранения ценностей, которые могут быть утрачены в новом мире.
Взгляд извне: поэты, переводчики и новое прочтение
Влияние эссе Толкина вышло далеко за рамки академического сообщества и оказало значительное воздействие на художественную интерпретацию «Беовульфа». Наиболее ярким примером является ирландский поэт Шеймас Хини, автор одного из самых известных и популярных переводов эпоса на современный английский язык.
В своём предисловии Хини назвал работу Толкина «эпохальной» и подчеркнул, что именно она выделилась подходом к «Беовульфу» как к литературе. По его словам, Толкин «воспринимал целостность и выдающиеся достоинства поэмы как произведения искусства как нечто само собой разумеющееся» и показал, каким образом она этого статуса достигает.
Толкин исходил из того, что поэт прочувствовал унаследованный материал – сказочные элементы и традиционные повествования о героическом прошлом – и путём сочетания творческой интуиции и сознательного структурирования пришёл к единству воздействия и сбалансированному порядку. Он предполагал, другими словами, что поэт «Беовульфа» был писателем с воображением, а не некой ретроспективной конструкцией, выведенной из фольклора и филологии XIX века.




