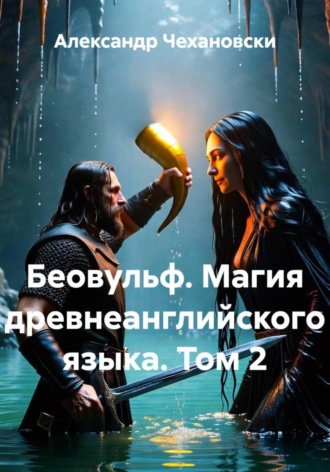
Полная версия
Беовульф. Магия древнеанглийского языка. Том 2
Мать Гренделя (Анджелина Джоли) – ключевая фигура авторской концепции. Это не безобразная великанша, а архетипическая искусительница, русалка (что подчёркивается дизайном её хвоста, похожего на хвост дракона), воплощение роковой женственности. Её отношения с Беовульфом – это классический фрейдистский комплекс и сделка с дьяволом, где предметом торга является мужская гордыня, власть и бессмертная слава. Джоли, которая снималась на раннем сроке беременности, отмечала, что была удивлена уязвимостью, которую вызвал у неё этот обнажённый цифровой образ.
Беовульф Рэя Уинстона, по признанию актёра, выиграл от того, что тот не был обременён знанием оригинала: «Мне повезло, что я не читал книгу, в которой, как я понимаю, Беовульф представлен как очень одномерный персонаж». Земекис создаёт героя, чья внешняя идеальность контрастирует с внутренними слабостями. Его знаменитое хвастовство («Это был не меч, это была моя рука!») обретает зловещий двойной смысл. Он побеждает Гренделя голыми руками (вдохновением для этой сцены послужили иллюстрации Ричарда Корбена и легенды о берсерках), но его победа над Матерью – фикция, сокрытая тайна, которая определяет всю его дальнейшую судьбу. Он становится королём не по праву силы, но по праву наследования от того, кого он якобы победил.
Даже второстепенные персонажи, такие как циничный Унферт (Джон Малкович) и уставший, грешный Хродгар работают на эту идею развенчания мифа. Хопкинс признавался, что технология capture напомнила ему брехтовский театр: «…у вас нет декораций, так что это как в пьесе Брехта, понимаете, только голые кости и больше ничего».
Наследие и критика: Фильм был встречен критикой неоднозначно. Пуристы упрекали его в предательстве духа оригинала, в излишней «голливудизации». Однако именно эта смелость и делает работу Земекиса ценнейшим объектом для исследования. Это разговор о природе мифа: как он рождается из человеческих слабостей, как искажается в угоду политическим интересам (что прекрасно показано через фигуру придворного скальда) и какой ценой даётся героизм. Земекис, Гейман и Эвери задаются вопросом: что остаётся за кадром эпической поэмы? Их ответ – человеческая слабость, компромисс, бремя власти и вечный цикл искушения, повторяющийся из поколения в поколение. Это глубоко американское прочтение, переносящее эпического героя в поле морального релятивизма и трагической иронии.
Академический ответ : Новая интерпретация поэмы вызвала волну критики со стороны как ученых, так и литераторов. Бонни Уилер, специалист по средневековью из Южного методистского университета, выразила обеспокоенность тем, что ради зрелищной сюжетной линии, где Беовульф поддается искушению Анджелины Джоли в роли матери чудовища, была принесена в жертву глубина и сила оригинального произведения. "Какой мужчина устоит перед Анджелиной Джоли?" – иронично вопрошает Уилер, отмечая, что это упрощает суть эпической поэмы. Она также подчеркнула, что фильм возвращается к устаревшему образу "ужасающей женщины, чудовищной самки", что, по её мнению, является шагом назад. Некоторые критики также усмотрели связь между матерью Гренделя и древнегерманской богиней плодородия Нертус, основываясь на теории из работы Джона Григсби «Беовульф и Грендель».
Несмотря на критику, фильм нашел и поддержку в академической среде. Профессор философии Стивен Т. Асма считает, что "более человечная версия Земекиса" показывает, что настоящие чудовища – это те, кто изгнал Гренделя. Согласно его мнению, чудовище – это скорее неправильно понятый человек, а не воплощение зла. Фильм перекладывает вину за жестокость Гренделя на людей, совершивших против него злодеяния. Асма отмечает, что фильм стремится очеловечить чудовищ, в отличие от оригинала, где они изображены, как изгои из-за своей злобной природы.
«Тринадцатый воин» (1999) Джона МакТирнана
Введение: Опосредованная адаптация и концепция «исторического Беовульфа»
Фильм Джона МакТирнана «Тринадцатый воин» занимает уникальное место в корпусе кинематографических адаптаций «Беовульфа». Это не прямая экранизация поэмы, а сложная многоуровневая интерпретация, прошедшая через двойной фильтр: сначала роман Майкла Крайтона «Пожиратели мертвых» (1976), который сам позиционировался как «историческая реконструкция» событий, легших в основу эпоса. Такой подход позволяет анализировать фильм, как рядовое кино приключение, а как метафору самого процесса мифотворчества, исследования того, как рождаются легенды через столкновение культур и «инаковость» взгляда.
1. Источник источников: Роман Крайтона как академическая мистификация
Ключ к пониманию фильма лежит в его литературной основе. Майкл Крайтон, будучи выпускником-медиком Гарварда и обладая острым умом исследователя, создал роман «Пожиратели мертвых» как интеллектуальную провокацию. В предисловии он утверждал, что книга основана на реальном манускрипте Ахмед ибн Фадлан, арабского дипломата X века, что является чистейшей мистификацией. Хотя Ибн Фадлан – историческое лицо, и его «Записка» о путешествии к волжским булгарам – реальный документ, в ней нет ни слова о викингах, сражающихся с каннибалами.
Крайтон, однако, блестяще сшил два пласта:
Исторический: Подлинные, поразительно детализированные наблюдения Ибн Фадлана о обычаях «русов» (викингов), которые составляют культурологическую и этнографическую ценность произведения.
Литературный: Сюжет «Беовульфа», наложенный на эти наблюдения. Крайтон предложил «рациональное» объяснение мифа: «пожиратели мертвых» (вендельские медведи? остатки культа медведя?) – не сверхъестественные чудовища, а реликтовое племя неандертальцев или кроманьонцев, сохранившееся в Северной Европе и практикующее каннибализм. Таким образом, Грендель и его мать из демонических существ превращаются в диких, но земных врагов.
Фильм МакТирнана наследует эту двойственность, балансируя между историческим реализмом и фэнтезийным ужасом.
2. Культурный мост: Ахмед ибн Фадлан как «чужой» взгляд на эпический мир
Самая гениальная находка Крайтона, блестяще воплощенная Антонио Бандерасом, – это выбор рассказчика. Ахмед – не эпический герой. Он цивилизованный, утонченный, даже несколько надменный багдадский поэт, изгнанный в «варварские» земли. Его взгляд – это взгляд антрополога, этнографа и постороннего.
Остранение эпоса: Через его глаза зритель, как и он сам, поначалу видит викингов как грубых, суеверных дикарей. Их обычаи (погребальный корабль, ритуалы, «пророчество» вельвы) шокируют и непонятны. Это позволяет заново открыть мир «Беовульфа», не принимая его условности как данность, а проживая их через удивление и ужас.
Трансформация героя: Арка Ахмеда – это арка постепенного принятия и ассимиляции. Он начинает как «тринадцатый воин» (не-нортманн, необходимый по пророчеству), чужак, которого презирают. Его героизм рождается не из врожденной силы, как у Беовульфа, а из интеллекта, наблюдательности и принятия кодекса чести нового общества. Он учится их языку, просто подслушивая («Слушай…» – ключевой момент фильма), перенимает их оружие и, в конечном итоге, их доблесть. Он становится своим, оставаясь самим собой – стратегом и лидером.
Переосмысление «Беовульфа»: Если в поэме Беовульф – готовый герой, приходящий извне, чтобы спасти датчан, то в фильме «Беовульфом» становится сам датский король (здесь Бульвиф) и, в конечном счете, иностранец Ахмед. Это подчеркивает универсальность темы героизма, который не привязан к расе или культуре, а рождается в поступке.
3. Параллели с «Беовульфом»: Скрытые смыслы и прямые отсылки
Фильм наполнен аллюзиями, которые зритель, знакомый с эпосом, узнает с удовольствием.
Герот vs. Хротгар: Король викингов Бульвиф (искаж. «Hrothwulf»?) – прямой аналог датского короля Хротгара. Он мудрый, но старый и неспособный лично защитить свой народ от угрозы.
Вендельская яма (Wendol) vs. Грендель: «Пожиратели мертвых» – это рациональное объяснение Гренделя. Они не демоны, а племя, носящее медвежьи шкуры и практикующее ритуальный каннибализм. Их атаки на «медовый зал» Бульвифа точь-в-точь повторяют набеги Гренделя на Хеорот.
Мать Венделей vs. Мать Гренделя: Сцена нападения на логово в пещере – одна из самых прямых отсылок. Ахмед и воины спускаются в туманную, заполненную костями пещеру, чтобы убить «мать» племени, что зеркалит нисхождение Беовульфа в подводное логово.
Оружие и доспехи: Меч, который находит Ахмед в пещере, – явная отсылка к гигантскому мечу из клада, которым Беовульф убивает мать Гренделя. В фильме он также оказывается решающим оружием против лидера венделей.
Тема рока и славы: Викинги в фильме живут по тем же эпическим кодексам, что и герои «Беовульфа». Их не пугает смерть, а пугает забвение. Фраза «Всё что есть у мужчины – это слово» перекликается с центральной важностью клятв и славы в англосаксонской поэтике.
4. Визуальный ряд и атмосфера: Создание «грязного» реализма Средневековья
В противовес чистым, студийным голливудским эпосу того времени, МакТирнан создает мрачный, реалистичный и «грязный» мир. Декорации, костюмы, грим – всё создает ощущение подлинности. Викинги выглядят не как стилизованные супермодели, а как настоящие воины: бородатые, в потрепанной коже и кольчугах, покрытые грязью и кровью. Это визуальное решение усиливает тезис Крайтона о «реальности», стоящей за мифом. Угрюмые северные пейзажи, туманы, грязь – всё это работает на создание атмосферы постоянной угрозы и приземленности, где монстрам самое место.
«Тринадцатый воин» как интеркультурная интерпретация мифа:
Подробное исследование данного фильма и книга, показывает, что "Тринадцатый воин» представляет из себя глубокое и умное исследование самой природы эпического повествования, в частности:
Демифологизирует «Беовульфа», предлагая псевдо-историческое объяснение сверхъестественных элементов.
Ремифологизирует его, показывая, как в столкновении культур и в устах рассказчика рождается легенда. Финал фильма, где арабы слушают уже мифологизированную историю о подвигах Ахмеда, закольцовывает эту тему.
Универсализирует тему героизма, доказывая, что доблесть и честь не являются прерогативой одной культуры.
Таким образом, фильм становится ценным объектом исследования адаптации и как самостоятельное высказывание. Высказывание о том, как история становится легендой, а чужестранец – эпическим героем, вписываясь в многовековой диалог с древней англосаксонской поэмой.
Анти-эпический подход и экзистенциальный поворот:
Если голливудские трактовки «Беовульфа» стремятся к монументальности и усилению эпического размаха, то работа исландско-канадского режиссера Стурлы Гуннарссона сознательно движется в противоположном направлении. «Беовульф и Грендель» – это не попытка воссоздать древний эпос, а его радикальная деконструкция. Фильм переносит фокус с торжества героического идеала на мрачную, грязную и психологически сложную реальность, где нет четких границ между добром и злом, героем и монстром. Это исследование порочного круга насилия, истоков ксенофобии и экзистенциального одиночества «чудовища», обреченного на вечную ненависть со стороны людей.
1. Источники и авторский замысел: Переосмысление через призму реализма
Сценарий Эндрю Рая Берзинса не является прямой экранизацией поэмы, а представляет собой ее глубокую и порой спорную интерпретацию. Авторы задаются вопросом: что, если у Гренделя была своя правда? Этот вопрос заставляет их отбросить сверхъестественные элементы поэмы (Грендель – не потомок Каина, а тролль, реликтовый hominid) и предложить «рациональное» объяснение конфликта, коренящееся в человеческой жестокости и непонимании.
Ключевыми нововведениями, кардинально меняющими смысл истории, становятся:
Происхождение Гренделя: Показана сцена из детства, где датчане во главе с молодым Хродгаром безжалостно убивают отца Гренделя за кражу рыбы. Это превращает многовековую вражду из мистического проклятия в личную трагедию мести.
Мотивация Гренделя: Его атаки на Хеорот – не слепая демоническая ярость, а осознанные акты возмездия за убийство отца. Он не ест людей, а именно убивает, следуя закону кровной мести, понятному и самим викингам.
Ведьма Сельма: Персонаж-посредник, «невеста» Гренделя, связующее звено между миром людей и миром изгоя. Через нее раскрывается не только трагедия Гренделя, но и лицемерие общества, которое презирает ее как колдунью, но пользуется ее знаниями.
2. Главный герой и главный антигерой: Амбивалентность образов
Беовульф (Джерард Батлер): Здесь он – не непогрешимый полубог, а усталый, pragmatic воин. Его героизм лишен романтического флера. Он физически силен, но психологически уязвим и сомневается в правоте своего дела. Его путешествие – это путь от слепого выполнения контракта на убийство к глубокому пониманию абсурдности и жестокости сложившейся ситуации. Он не торжествует над поверженным врагом, а хоронит его с почестями, признавая в нем равного себе страдающего существа.
Грендель (Ингвар Эггерт Сигурдссон): Это сердце и самый проработанный образ фильма. Гуннарссон и Сигурдссон создают не монстра, а трагическую фигуру. Грендель косноязычен, одинок, движим болью и тоской по утраченной семье. Его пещера с мумифицированной головой отца – это алтарь его горя. Зритель не боится его, а испытывает жалость и сочувствие. Его физическая уродливость контрастирует с духовной чистотой и прямой, почти детской логикой мести по принципу «око за око».
Хродгар (Стеллан Скарсгард): Король представлен как фигура, сломанная грузом собственной вины. Его пьянство и отчаяние – не столь слабость, сколько муки совести человека, осознающего, что он сам создал монстра, проявив сначала неоправданную жестокость, а затем – непоследовательную жалость.
3. Ключевые темы и их разработка
Цикл насилия: Фильм мастерски показывает, как одно жестокое деяние порождает цепную реакцию мести. Убийство отца Гренделя → месть Гренделя → ответное насилие Беовульфа → месть матери Гренделя. Фильм задается вопросом: кто здесь настоящий монстр? Тот, кто мстит за отца, или те, кто начал эту бойню из-за украденной рыбы?
Столкновение мировоззрений: На фоне основного действия разворачивается конфликт между язычеством и nascent Christianity. Ирландский монах Брендан представляет новую веру, которая осуждает насилие, но оказывается бессильной перед языческими инстинктами толпы. Язычество викингов показано как суровая, практичная, но и жестокая система ценностей, основанная на силе и мести.
Природа монструозности: Основной тезис фильма – монстр не рождается, а создается. Монструозность Гренделя – это проекция страха и ненависти людей на того, кто от них отличается. Фильм развенчивает миф о «чудовище», показывая, что истинная жестокость часто исходит изнутри человеческого сообщества.
4. Визуальный ряд и атмосфера: Исландия как анти-героический ландшафт
Операторская работа и выбор натурных съемок в Исландии являются принципиально важными. Вместо уютных английских равнин или павильонной студийности зритель видит суровые, величественные, но безжалостные ландшафты: черные базальтовые пляжи, голые скалы, туманы, ледники и холодное море. Этот пейзаж не воспевает героизм, а подчеркивает ничтожность и бренность человека перед лицом безразличной, могучей природы. Грязь, кровь, потрепанные шкуры – все работает на создание эффекта «грязного реализма», максимально далекого от голливудского глянца.
5. Критическая рецепция и место в традиции адаптаций
Смелый пересмотр канона был встречен критикой неоднозначно. Упреки в «излишней благопристойности» (Тодд Маккарти, Variety) и утрате «мифического величия» (Ник Шейгер, Slant Magazine) проистекают из непонимания сверхзадачи фильма. Гуннарссон не ставил целью воссоздать величие эпоса; его цель – его разобрать и показать психологическую изнанку.
Фильм стоит в одном ряду с «Тринадцатым воином» как попытка рационализации мифа, но идет значительно дальше в плане морального релятивизма и сочувствия к «антигерою». Если Крайтон и МакТирнан предлагали историко-приключенческую версию, то Гуннарссон – версию экзистенциально-драматическую.
«Беовульф и Грендель» как гуманистическая притча:
«Беовульф и Грендель» 2005 года – это смелая и интеллектуально честная адаптация, которая ценна именно своим отклонением от канона. Она переносит древний эпос в поле современной морали, задавая вечные вопросы о природе зла, цене мести и ответственности за насилие. Это фильм-размышление, который призывает зрителя не восхищаться силой героя, а задуматься о цене, которую платят все стороны конфликта, и увидеть человеческое (или околочеловеческое) лицо того, кого традиция называет монстром. В финале Беовульф увозит с собой не славу, а тяжелое знание и горькую мудрость, оставляя Данию в том же порочном круге, предупреждая Сельму спрятать сына Гренделя – новую потенциальную жертву и мстителя. Это финал без победы, что делает фильм одним из самых пессимистичных и, как следствие, самых глубоких прочтений древней саги.
3. «Сказание, застывшее в линиях и красках»: «Беовульф» в мире графических романовГрафический роман (комикс), как форма искусства, сочетающая визуальное повествование с литературным текстом, предлагает уникальный способ интерпретации древнего эпоса. Это не просто «упрощение» для неподготовленной аудитории, а сложный акт медиевизации – перевода средневековых нарративных стратегий на язык современной визуальной культуры. Художники-графики становятся наследниками сразу двух традиций: сказителя-скопа, декламирующего поэму, и средневекового переписчика-иллюминатора, украшающего манускрипты. Их работы варьируются от буквальных пересказов до смелых авторских интерпретаций, каждая из которых по-своему расставляет акценты в вечном противостоянии героя и чудовища.
От кейса к тенденции: Анализ ключевых адаптаций
1. Гарэт Хиндс: Археологический подход и визуальный эпос
Адаптация американского художника Гарэта Хиндса (2007) по праву считается одной из самых значительных и уважаемых в своем жанре. Хиндс подходит к материалу не как популяризатор, а как исследователь и соавтор.
Визуальная достоверность: Это ключевая особенность его работы. Хиндс проводит тщательную изыскательскую работу, чтобы его визуальный ряд соответствовал археологическим данным об эпохе викингов и англосаксов. Доспехи, оружие, архитектура Хеорота, детали быта – все это не плод фантазии, а реконструкция, основанная на реальных находках (Саттон-Ху, захоронения в Венделе и т.д.). Это погружает читателя в исторический контекст, делая миф осязаемым и реальным.
Перевод поэзии в визуал: Хиндс блестяще решает главную задачу – как передать средствами комикса поэтические формулы, кеннинги и ритм оригинала? Он делает это через визуальные метафоры. Например, море становится «китом» («whale-road»), а сцена пира визуализирует идею общности и братства воинов. Его панели часто напоминают кадры эпического кино, где огромное внимание уделяется пейзажам, создающим настроение – туманные болота, хмурое море, темный и просторный Хеорот.
Акценты: Хиндс сохраняет эпический масштаб и трагизм истории. Его Беовульф – не карикатурный силач, а герой, обреченный на гибель своим желанием славы и долгом перед людьми. Финальный бой с драконом подается не как триумф, а как героическая жертва.
2. Сантьяго Гарсия и Дэвид Рубин: Постмодернистская деконструкция
Испанский графический роман «Беовульф» за авторством Сантьяго Гарсии (сценарий) и Дэвида Рубина (художник) (2013) представляет собой радикально иную, постмодернистскую интерпретацию.
Мета-нарратив: Авторы не просто рассказывают историю, они постоянно рефлексируют над самим процессом её рассказывания. История подается как миф, который пересказывается и искажается с течением времени. В повествование напрямую включается фигура Рассказчика (Скопа), чьи версии событий могут меняться.
Психологизация и сомнение: Гарсия и Рубин уделяют огромное внимание внутреннему миру персонажей. Беовульф здесь рефлексирующий, почти ницшеанский герой, разрывающийся между своими побуждениями. Грендель и его мать показаны не как чистое зло, а как трагические, даже жалкие существа, порожденные проклятием и одиночеством. Это исследование природы монструозного: кто настоящий монстр – уродливый потомок Каина или герой, одержимый славой и насилием?
Визуальный стиль: Рубин использует динамичную, экспрессивную графику, часто ломая традиционную сетку панелей. Его стиль отсылает к классике американских комиксов (Джек Кирби) и манги, создавая энергичный, порой сюрреалистичный визуальный ряд, который подчеркивает вневременную, мифическую природу истории.
3. Другие примеры: От массового к нишевому
Адаптация от DC Comics (1975-76): Яркий пример подхода «супергероики». Беовульф изображен как идеализированный варвар-герой в духе Конана, а история подается как последовательность ярких приключений и драк с монстрами. Акцент сделан на экшене, а не на нюансах.
«Beowulf» by Stephen L. Stern and Christopher Steininger (2007): Созданная как тай-ин к фильму Земекиса, эта адаптация наследует его кинематографичность и акцент на гиперреалистичные, детализированные визуальные эффекты.
Общие тенденции и культурологическое значение
Анализируя графические адаптации «Беовульфа», можно выделить общие черты:
Визуализация как интерпретация: Каждое художественное решение (цвет, композиция, стиль рисунка) является актом анализа. Мрачная палитра Хиндса подчеркивает суровость эпоса, mientras que (тогда как) яркие, смелые цвета Рубина – его мифическую, вневременную суть.
Борьба между буквальностью и аллегорией: Одни авторы стремятся к исторической достоверности, другие – к философскому или психологическому переосмыслению.
Доступность vs. сложность: В то время как некоторые комиксы действительно служат «введением» в сюжет, лучшие образцы жанра (как работы Хиндса и Гарсии/Рубина) предлагают сложные, многослойные тексты, требующие от читателя активного сотворчества и знания оригинала для полноценного понимания всех аллюзий.
Графические романы о «Беовульфе» доказали, что комикс – это серьезный медиум, способный не только пересказать, но и углубить, и переосмыслить классическое произведение. Они являются мостом между древней устной традицией и современной визуальной культурой, демонстрируя, что история о герое, сражающемся с чудовищами внешними и внутренними, продолжает резонировать, находя новые формы для своего воплощения. Они не заменяют оригинал, а приглашают нового читателя в мир англосаксонского эпоса, предлагая ему уникальный и мощный визуальный опыт.
4. «Беовульф» на сцене: Деконструкция эпоса в пространстве театра
Эпос как вызов для сценического языка
Перенести масштабный англосаксонский эпос на театральные подмостки – задача, требующая не инсценировки, но радикальной трансформации. Театр, в отличие от кинематографа, не может позволить себе буквальность в изображении чудовищ и битв. Его сила – в условности, метафоре и непосредственном присутствии актера. Поэтому каждая значимая театральная постановка «Беовульфа» становится не просто пересказом, а глубоким исследовательским высказыванием, интерпретирующим древний текст через призму современных эстетических и философских систем: эпического театра, физического перформанса, иммерсивных практик и музыкального языка.
1. Ключевые векторы интерпретации: От мифа к метадраме
Театральные режиссеры актуализируют поэму, выдвигая на первый план один из её пластов:
Героико-ритуальный: Акцент на архаике, ритме, обрядовости. Используется хор, стилизованные движения, звуковой ландшафт (бубны, горны, throat singing) для воссоздания атмосферы древнего сказа.
Психологически-реалистичный: Демифологизация истории. Беовульф, Хродгар и особенно Грендель исследуются как сложные психологические типы с мотивациями и травмами. В центре – темы вины, мести, бремени власти и страха смерти.
Политико-социальный: Прочтение поэмы как трактата о природе власти, механизмах создания врага («образа чужого»), милитаристской культуре и межплеменных конфликтах.
Постмодернистско-деконструктивный: Разбор самого акта повествования. Текст подвергается иронии, анахронизму, коллажированию. Цель – исследовать, как создаются мифы и как они функционируют в современном культурном поле.
2. Язык и ритм: Воскрешение устной традиции
Поскольку «Беовульф» родился из устной традиции сказителей-скопов, многие постановки делают язык доминантой.
Музыкальность текста: Использование переводов, сохраняющих аллитерационную мощь оригинала (как перевод Симана Хини). Речь часто не просто произносится, а речитативно пропевается, превращая спектакль в своеобразную оперу без музыки.
Хор как коллективное сознание: Хор выполняет функции народа данов, коллективного сказителя, а также стихийных сил природы, окружающих и подавляющих человека.
3. Воплощение невоплотимого: Сценография чудовищности



