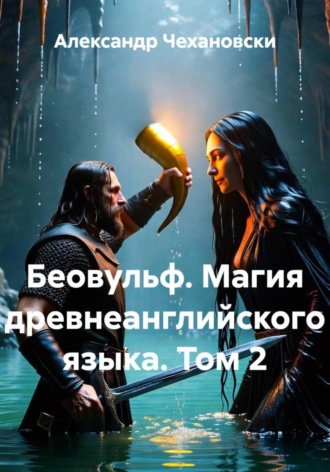
Полная версия
Беовульф. Магия древнеанглийского языка. Том 2
Эта работа не только реабилитировала «Беовульфа» как великое произведение искусства, но и заложила методологическую основу для всего последующего изучения поэмы, подтвердив право древнего текста на серьёзный литературоведческий анализ.
Рецепция и влияние: как Толкин изменил изучение «Беовульфа»
Работа Толкина была встречена научным сообществом с энтузиазмом и признана поворотной точкой в истории критики «Беовульфа». Её влияние, по общему признанию, оказалось чрезвычайно широким и сохраняется по сей день.
Научное сообщество: от скепсиса к новой парадигмеКак отметил филолог Том Шиппи, эссе «было с энтузиазмом, даже с благодарностью, подхвачено поколениями критиков». Алвин А. Ли констатировал, что «манифест и интерпретация Толкина оказали на читателей больше влияния, чем любое другое отдельное исследование, даже though оспаривался практически по каждому из своих основных пунктов».
Коллеги-медиевисты единодушны в оценке значимости работы. Сет Лерер назвал её «текстом-основателем современной критики «Беовульфа»», чьи стратегии определяли фундаментальные подходы в англосаксонской науке последующие пятьдесят лет. Р.Д. Фулк подтвердил, что «никто не отрицает исторической важности этой лекции», которая открыла дорогу формалистским принципам, сыгравшим vital роль в дальнейшем развитии исследований. Брюс Митчелл и Фред К. Робинсон в своём издании «Беовульфа» (1998) без колебаний назвали её «самым влиятельным литературоведческим анализом поэмы из когда-либо написанных».
Критический диалог и уточненияОднако влияние Толкина не было безоговорочным принятием. Историк Патрик Вормалд, признавая, что «без преувеличения можно описать это эссе как одну из самых влиятельных литературно-критических работ того столетия», сразу отметил, что аргументы Толкина не были приняты universally. Некоторые последствия, возможно, даже не предполагались самим автором.
Профессор Рой Люцца указал на потенциальную ограниченность подхода Толкина, отметив, что «разделение поэмы на «мифические» и «исторические» элементы является ложной дихотомией». Он аргументировал, что если миф способен конденсировать и удерживать в себе глубочайшие источники напряжения между личностью и социальным порядком, то даже мифические битвы Беовульфа одновременно проливают свет на общество и историю, драматизируя современные поэту идеологии через их проекцию в прошлое.
Майкл Д. К. Драут, один из главных современных экспертов по наследию Толкина, подчеркнул ироничный парадокс этого влияния. Несмотря на то, что большая часть собственной работы Толкина над «Беовульфом» была филологическим, детальным комментарием (как в «Финне и Хенгесте»), именно его широкие, интерпретационные и риторически мощные обобщения в эссе сформировали целое поле науки. Драут отметил, что Толкин, вероятно, видел фундаментальную непрерывность между этими двумя подходами, но именно «широкая картина» оказала решающее воздействие.
Формирование «мифа о поэте»Джон Д. Найлз обратил внимание на ещё один важный аспект влияния Толкина: создание «мифа о поэте». Учёные последующих десятилетий, отправляясь от толкиновского прочтения, стали воспринимать автора «Беовульфа» как «эстетическое единство, наделённое духовной значимостью». В интерпретации Толкина, поэт предстаёт глубоким мыслителем, религиозно просветлённым, чей разум обращён к утраченному героическому миру воображения. Как метко заметил Джордж Кларк, Толкин оставил исследователям «миф о поэте как задумчивом интеллектуале, застывшем между умирающим языческим миром и nascent христианским». Таким образом, Толкин не только реабилитировал поэму, но и создал убедительный образ её творца – во многом сходный с ним самим.
Отклик в прессе и культурное влияние
Вне узкоакадемического круга эссе также получило высокую оценку. Джоан Акочелла в The New Yorker назвала его работой, которую многие считают «не просто лучшим эссе о поэме, но и одним из лучших эссе во всей английской литературе», сформулировав позицию Толкина ёмкой фразой: «Толкин предпочитал чудовищ критикам».
Обозреватель The New York Times Реджина Вайнрайх, рецензируя сборник «Чудовища и критики», отметила, что заглавное эссе «произвело революцию в изучении древнеанглийской поэмы «Беовульф»», подчеркнув защиту Толкином «центральности и серьёзности литературных чудовищ» как символических воплощений зла.
Журналист и биограф Джон Гарт в The Guardian резюмировал практическое значение работы: «Толкин выдвинул чудовищ на первый план». Он связал аргумент Толкина о «северной доблести», обретающей смысл только в борьбе с силами уничтожения, с личным опытом писателя как ветерана битвы на Сомме. Для Толкина, знавшего цену мужества перед лицом неминуемого поражения, этот тезис был не абстрактной теорией, а экзистенциальной истиной.
Таким образом, эссе «Беовульф: Чудовища и критики» не только изменило академический ландшафт, но и закрепило в массовом сознании образ «Беовульфа» как глубокой философской поэмы, чья мощь проистекает из вечного противостояния человеческого духа силам хаоса и смерти.
Глава 4. Толкин и Беовульф, анализ персонажей и мотивов поэмы
1. Персонажи и их архетипыБеовульф и Арагорн:
Сравнение Беовульфа и Арагорна – один из самых очевидных способов увидеть влияние «Беовульфа» на «Властелина Колец». Оба персонажа являются героями-воинами, лидерами и королями, стремящимися к справедливости и защите своего народа.
Беовульф – это могучий воин, обладающий невероятной силой и отвагой. Он прибывает в Хеорот, чтобы избавить датчан от чудовища, и сражается с Гриндэлем без оружия, полагаясь только на свою силу. Он смел, решителен и всегда готов к битве.
Арагорн также является воином и лидером, но его путь к власти более сложен и тернист. Он – потомок королей, но скрывает свое происхождение и ведет жизнь странника. Ему приходится доказывать свое право на престол и завоевывать доверие своего народа.
Оба героя сталкиваются с внутренними конфликтами и искушениями. Беовульф, будучи молодым и сильным, может быть излишне самоуверенным и жаждущим славы. Арагорну приходится бороться с сомнениями в себе и страхом перед ответственностью, которая ляжет на его плечи после восхождения на престол.
Тем не менее, оба героя обладают благородством, честью и верностью своим идеалам. Они готовы отдать свою жизнь за свой народ и за справедливость. Мотив «возвращения короля» и восстановления порядка является ключевым для обоих персонажей. Беовульф становится королем геатов и правит мудро и справедливо. Арагорн возвращается на престол Гондора и Арнора и восстанавливает величие этих королевств.
В то время как Беовульф и Арагорн представляют собой положительные архетипы героев, Гриндэль, Голлум, Саурон и Шелоб олицетворяют силы зла и тьмы.
Гриндэль – это чудовище, порождение тьмы, живущее вне человеческого общества и нападающее на людей из зависти и злобы. Голлум, в свою очередь, является трагическим персонажем, когда-то бывшим хоббитом, но искаженным властью Кольца Всевластия. Он представляет собой «тень» Бильбо, олицетворение его темной стороны и искушения властью.
Саурон – это более абстрактное зло, стремящееся к мировому господству и уничтожению всего доброго и светлого. Он – воплощение тирании и деспотизма. Шелоб, напротив, является более примитивным и инстинктивным злом, олицетворяющим первобытный ужас и тьму. Она – гигантская паучиха, живущая в пещерах и питающаяся живыми существами.
Введение: Две ипостаси тьмы
Анализируя архетипы зла в мировой литературе, невозможно обойти стороной столкновение двух традиций: древней, эпической, где зло часто телесно и конкретно, и современной, развитой Дж. Р. Р. Толкином, где зло метафизично и многослойно. Сравнение антагонистов «Беовульфа» с Сауроном из легендариума Толкина позволяет не просто сопоставить персонажей, но и вскрыть эволюцию самого понятия «врага» в коллективном сознании. Если в древнеанглийском эпосе зло – это, прежде всего, чудовище, нарушающее покой человеческого сообщества, то у Толкина зло – это глобальная, коррумпирующая сила, искушающая саму душу.
Саурон: Абстракция тирании и падшее совершенство:
Саурон – не изначальное чудовище. Он Майа, дух того же порядка, что и Гэндальф, изначально служивший богу-кузнецу Аулэ. Его первоначальное имя – Майрон, «Восхитительный». Это ключевой момент для понимания его архетипа.
В рамках анализа архетипов центральной фигурой абсолютного, метафизического зла в западной литературе XX века по праву считается Саурон из легендариума Дж. Р. Р. Толкина. В отличие от более примитивных и инстинктивных воплощений тьмы, Саурон представляет собой сложный, многоуровневый архетип тирании, коренящейся в извращенной воле к порядку.
1. Падший Ангел: Истоки и метаморфозы зла
Ключ к пониманию сущности Саурона лежит в его происхождении. Он – не хтоническое чудовище и не порождение хаоса, а майа, один из «бессмертных (ангелоподобных) духов», созданных Эру (Богом). Изначально, как отмечает Толкин, «ничто не было злым в начале. Даже Саурон не был таким». Его первоначальное имя – Майрон, что означает «Восхитительный», и служил он при Вала Аулэ, великом кузнеце, от которого перенял огромные знания о вещественном мире и мастерстве.
Его падение не было случайным. Оно стало следствием его главной «добродетели» – любви к порядку и размеренности и ненависти к «разброду и бессмысленным трениям». Мотив «падшего ангела» здесь очевиден: Саурон был совращен Мелькором (Морготом), увидев в его силе и воле инструмент для быстрого и эффективного воплощения своих планов по упорядочиванию мира. Таким образом, зло Саурона изначально укоренено не в жажде разрушения, а в извращенной тяге к тотальному контролю, что делает его архетипом тирана-реформатора.
2. Архетип Тирана: От «благих намерений» к абсолютной власти
После поражения Моргота в Первую Эпоху Саурон постепенно превращается в самостоятельную силу. Значимо, что его возвращение во Вторую Эпоху начинается с «благих намерений» – «переустройства и восстановления Средиземья, „покинутого богами“». Однако, как пишет Толкин, его гордыня и жажда власти превратили эти намерения в волю к абсолютному господству. Его изолированный разум возвел собственные «планы» в единственную и конечную цель.
Это прекрасно иллюстрируется его действиями под личиной Аннатарa («Владыка Даров»). Обманув эльфов Эрегиона, он помогает им создать Кольца Власти, тайно выковав в огне Ородруина Единое Кольцо. Этот артефакт становится квинтэссенцией его архетипа: он не просто источник силы, а инструмент порабощения и контроля над волей других. Саурон стремится не просто уничтожить врагов, но и подчинить их, сделать частью своей системы.
3. Многоуровневая угроза: Война, обман и коррупция
Архетип Саурона как высшего зла проявляется в его многогранности. Он представляет угрозу на всех уровнях:
Военно-политический: Он – «Тёмный Властелин», правитель гигантской империи из Барад-Дура, командующий армиями орков, истерлингов и харадрим. Он ведет классические войны за господство.
Идеологический и обманный: Саурон – «Обманщик». Его падение Нуменора – шедевр манипуляции. Он не завоевывает остров силой, а сдается в плен и, став советником короля, развращает его изнутри, склоняя к поклонению Тьме и Мелькору. Он использует человеческие страхи (смертности) и амбиции.
Духовный и коррумпирующий: Его главное оружие – искушение. Кольца Власти, данные людям, превращают их в назгулов – рабов его воли. Даже те, кто противостоит ему, как Фродо или Боромир, вынуждены бороться с внутренним искушением применить силу Кольца во благо, что неминуемо ведет к порабощению. Саурон коррумпирует саму природу добра, заставляя его использовать методы зла.
4. Деперсонификация: От «Восхитительного» к «Оку»
Эволюция физического облика Саурона также раскрывает его архетип. Начиная как прекрасный «Аннатар», он после гибели тела в Падении Нуменора теряет способность принимать приятный глазу облик. К концу Третьей Эпохи для большинства персонажей он перестает быть антропоморфным существом, превращаясь в Всевидящее Око – чистый символ surveillance, тирании и подавляющей воли. Он становится абстракцией, системой, а не существом. Его окончательное поражение – это не смерть в поединке, как у традиционных чудовищ, а уничтожение центра его власти (Кольца), что приводит к коллапсу всей созданной им системы.
Саурон Толкина – это архетип зла, доведенного до своего логического абсолюта. Это зло, рожденное не из хаоса, а из извращенной тяги к порядку; не из бессмысленной жестокости, а из холодной расчетливой воли к власти. Он олицетворяет тиранию как систему, поражающую не только тела, но и души, и его образ остается одним из самых глубоких и философски нагруженных воплощений Абсолютного Врага в мировой литературе.
Сравнение Голлума и Саурона: Две ипостаси зла во «Властелине Колец»:
Сравнение Голлума и Саурона позволяет увидеть не только двух разных антагонистов, но два фундаментально различных архетипа зла, взаимодействие которых составляет этический стержень «Властелина Колец». Если Саурон олицетворяет зло как внешнюю, тоталитарную силу, стремящуюся к порабощению и уничтожению всего сущего, то Голлум представляет собой зло внутреннее, трагическое и притягательное, рожденное из искажения человеческой (в данном случае хоббитской) природы под тлетворным влиянием абсолютной власти. Это различие пронизывает все аспекты их существования – от происхождения и мотивации до их конечной роли в судьбе Кольца.
Саурон: Абстракция тирании
Саурон, бывший Майа, «падший ангел» из свиты Аулэ, воплощает зло как безличную и системную силу. Его стремление к порядку и контролю, изначально бывшее, возможно, даже «благим намерением», выродилось в волю к абсолютному господству. Он – дух, чье физическое воплощение в Третью Эпоху либо утрачено, либо сведено к символическому Всевидящему Оку, что подчеркивает его природу как идеологии, а не существа. Его зло приходит извне: это угроза завоевания, порабощения воли и уничтожения свободы. Саурон не искушает – он подчиняет, будь то силой оружия, магией Колец или ложью. Его отношения с Кольцом сугубо утилитарны: это инструмент власти, усилитель его собственной силы, но не объект патологической любви. Уничтожение Кольца для Саурона – это поражение системы, крах империи, но не личная трагедия.
Голлум: Трагедия распавшейся личности
Голлум, чья история детально раскрыта во «Властелине Колец», представляет собой полную противоположность. Его зло не метафизично, а глубоко психологично и личностно. Он не падший ангел, а падший хоббит по имени Смеагол, чья натура была извращена и раздвоена Кольцом в момент его первого преступления – убийства своего родича Деагола из-за желания завладеть «прелестью». Это ключевой момент: зло входит в Голлума не извне, как в случае с Сауроном, а проистекает изнутри, из темных уголков его собственной души, пробужденных искушением. Кольцо для Голлума – не инструмент, а объект болезненной, почти романтической одержимости. Он не стремится с его помощью покорить мир; мир для него сузился до темной пещеры и его «сокровища». В этом его уязвимость и его сила. Монстрологизация Голлума – его внешний облик, привычка говорить о себе в третьем лице («my precious») или в множественном числе («we hates it»), символизирующая раскол его личности на Смеагола и Голлума, – это внешнее проявление внутренней нравственной деградации.
Искушение как центральный мотив
Именно в точке искушения пути Саурона и Голлума сходятся, чтобы затем кардинально разойтись. Мотив борьбы с темными силами внутри себя является ключевым для понимания замысла Толкина. Фродо, как и Голлум, испытывает искушение властью Кольца, и ему приходится вести непрерывную внутреннюю борьбу, чтобы выполнить свою миссию. Голлум служит для Фродо живым предостережением, его «теневым двойником» – мрачным пророчеством о том, кем он сам может стать, если поддастся влиянию «прелести». Жестокость Голлума – это не сауроновская холодная воля к власти, а отчаяние раба, не способного освободиться от своего хозяина-мучителя. Его знаменитый внутренний диалог на пороге логова Шелоб – это кульминация борьбы между последними остатками Смеагола, жаждущего света и доверия, и всепоглощающей тьмой Голлума. Трагедия в том, что эта борьба, этот шанс на искупление, оказывается утраченным из-за недоверия Сэма, что окончательно толкает Голлума на путь предательства.
Провидение и свобода воли: Неожиданное разрешение
Однако на метафизическом уровне Толкин, будучи глубоко верующим человеком, проводит еще более сложную мысль. И Саурон, и Голлум, при всей их разности, являются рабами своей собственной воли, сковаными цепями собственного выбора. Но если для Саурона, чья воля направлена лишь на зло, нет спасения, то в случае Голлума Провидение (воля Эру Илуватара) способно обратить самое порочное существо и его темные поступки во благо. Гэндальф, словно предвидя это, говорит о Голлуме: «И моему сердцу подсказывает, что ему еще предстоит сыграть свою роль, к добру или к злу». Эта роль оказывается решающей. В кульминационный момент на краю Огненной Бездны, когда Фродо, поддавшись искушению, сам объявляет Кольцо своим и надевает его, именно Голлум откусывает ему палец и, ликуя, падает в жерло Роковой Горы. Так, существо, полностью развращенное Кольцом, невольно становится орудием его уничтожения. Его падение – это не триумф добра над злом в чистом виде, а сложное переплетение свободы воли, милосердия (ведь и Бильбо, и Фродо, и Сэм щадили его, движимые жалостью) и высшего замысла, способного обратить любое зло к благим последствиям. Таким образом, Голлум и Саурон, представляя две формы зла – личностную и абстрактную, внутреннюю и внешнюю, – оказываются связанными противоположностями, чье противостояние и невольное взаимодействие в конечном счете и приводит к спасению Средиземья.

Другие персонажи (Гэндальф, Галадриэль, Теоден) и их связь с героями «Беовульфа»:
Архаический фундамент архетипа:
«Беовульф» и образ Гэндальфа-проводника
Если попытаться определить центральный, структурообразующий архетип, унаследованный Толкином из англосаксонского эпоса и нашедший свое самое полное воплощение в Гэндальфе, то это будет фигура «мудрого советчика и провидца» (Old Wise Counsellor), чья власть проистекает не из физической мощи, но из глубины знания и связи с древним порядком мироздания. Влияние «Беовульфа» здесь не сводится к простому заимствованию имени или отдельных черт; речь идет о глубоком усвоении самой поэтики и функции этого архетипа в эпическом повествовании.
В поэме эту роль исполняет Хротгар, король датчан. Он – носитель королевской мудрости (слово eald eodor, «старый защитник», используется по отношению к нему), хранитель преданий и законов. Именно он произносит ключевую для всего произведения «Проповедь Хротгара» – наставление Беовульфу о бренности земной славы и опасностях гордыни, тем самым придавая подвигу героя философскую глубину. Хротгар не сражается с Гренделем, но его слово, его совет и сама его осажденная твердыня Хеорот являются духовным центром, вокруг которого разворачивается действие первой части поэмы.
Толкин, будучи одним из ведущих медиевистов своего времени, не просто знал этот архетип – он понимал его механику. В своем эссе «Беовульф: Чудовища и Критики» (1936), ставшем поворотным пунктом в изучении поэмы, Толкин настаивал на рассмотрении ее как целостного художественного произведения, где диалоги и «элегические» пассавы (такие как проповедь Хротгара) не менее важны, чем описания битв. Этот взгляд напрямую повлиял на его собственную литературную практику.
Гэндальф является прямым наследником и творческим развитием этой модели. Однако Толкин радикально расширяет ее, соединяя с другими традициями:
От Короля-Мудреца к Страннику-Магу. Толкин «снимает» с архетипа королевские регалии. Гэндальф – не правитель, сидящий в золотом зале, а «Серый Странник» (Grey Pilgrim). Это позволяет ему быть не статичным центром, а двигающей силой сюжета, катализатором событий. Его знание – не только книжное, но и полученное в бесконечных странствиях, что делает его фигурой универсальной, а не локальной, как Хротгар.
Накладывание мифологических слоев. На архаичную англосаксонскую основу Толкин накладывает другие влияния, о которых вы упомянули: Скандинавский Один в облике Старца (Vegtamr, «Странник»): седобородый мужчина в широкополой шляпе, обладающий тайным знанием и пользующийся помощью орлов. Это придает Гэндальфу ауру древнего, архаического божества. Ангел во плоти (Истари): Толкин в письмах прямо называл Гэндальфа «воплощенным Майар» – ангельским существом, чья миссия – направлять и вдохновлять, но не доминировать над свободной волей народов Средиземья. Это теологическое измерение углубляет концепцию, поднимая ее от уровня эпического советника до уровня провиденциального посланника.
Функциональное сходство. Как и Хротгар, Гэндальф выполняет ключевую роль «наставника в момент кризиса». Он является нравственным компасом для главных героев. Его знаменитая фраза «Не спеши хоронить живых», сказанная в мрачных залах Эдораса, или его пламенная речь перед вратами Минас-Тирита – это прямые аналоги «Проповеди Хротгара», обращенные к новому поколению «эпических героев» (Теодену, Арагорну, Фродо), чтобы укрепить их дух перед лицом абсолютного Зла.
Роль саги «Беовульф» в формировании образа Гэндальфа фундаментальна. Поэма предоставила Толкину не прототип, а архаический каркас, культурный код. Она научила его тому, как в подлинном эпосе мудрость предшествует силе и направляет ее. Гэндальф – это Хротгар, выведенный за стены своего зала в огромный и опасный мир, обогащенный мощью скандинавского бога и духовным статусом христианского ангела. Без глубокого осмысления «Беовульфа» фигура Серого Странника могла бы остаться в рамках условного «волшебника» из сказок, но благодаря ему она обрела ту эпическую весомость, глубину и трагизм, которые делают ее одной из величайших литературных фигур XX века.
Галадриэль: эхо мудрых провидцев и властителей
Образ Галадриэль, Владычицы Лориэна, является одним из самых сложных и многогранных в легендариуме Толкина. Его связь с англосаксонским эпосом проявляется не через прямые сюжетные параллели, как у Беорна или дракона, а на более глубоком, архетипическом уровне, восходящем к фигурам мудрых правительниц и провидцев, чьи следы угадываются в тексте «Беовульфа».
Прежде всего, Галадриэль воплощает архетип мудрой королевы-властительницы, чей авторитет зиждется не на военной силе, а на знании, опыте и врожденной мощи. В поэме «Беовульф» такой фигурой является Вальхтеов (Wealhtheow), королева данов, супруга Хродгара. Ее роль выходит за рамки традиционных представлений о женщине в героическом эпосе. Вальхтеов – активная участница событий: она ритуально обходит пирующих, подносит чашу, произносит речи, выступая хранительницей мира и династической преемственности в Хеороте. Она – воплощение «frēoðuwebbe» (миротворца), чье слово имеет вес. Галадриэль в Лориэне выполняет схожую функцию. Она являет нам собой образ не только правительницы, но сердца и душы своего народа, «владычицы света», поддерживающей гармонию и порядок в своем «очарованном» королевстве, защищенном от тления внешнего мира. Ее власть – это власть мудрости и благодати, а не принуждения.
Ключевым аспектом, сближающим Галадриэль с миром «Беовульфа», является мотив дара. В эпосе дарение – фундаментальный социальный ритуал, скрепляющий узы между воином и королем. Хродгар щедро одаривает Беовульфа за его подвиг. Галадриэль, провожая Братство, дарует каждому члену подарок, идеально соответствующий его судьбе. Этот акт не простой доброты; это ритуальное действие властителя, наделяющего героев силой для предстоящего пути. Особенно символичен дар Фродо – Фиал Галадриэль, в котором заключен свет звезды Эарендила. Этот свет, побеждающий тьму, можно сравнить с магическим мечом Хрунтингом, который Хродгар дает Беовульфу для битвы с матерью Гренделя. Оба дара – представляют из себя символы доверия и надежды, наделенные глубокой духовной силой.
Наиболее ярко связь с архаическим эпосом проявляется в сцене испытания Галадриэль, когда Фродо предлагает ей Единое Кольцо. Этот эпизод является прямой отсылкой к теме искушения властью и проверки добродетели правителя. Галадриэль, подобно королям из древних преданий, стоит перед выбором: использовать абсолютную власть для воплощения своих благородных, но горделивых замыслов («Вместо Тёмного Властелина ты поставишь Королеву. И я буду не тёмной, а прекрасной и ужасной…») или отказаться от нее, сохранив свою духовную сущность. Ее знаменитая фраза «Я прошла испытание» – это момент высшего самоотречения, который находит отзвук в идеале мудрого правления, где сила должна быть подчинена ответственности. Хотя в «Беовульфе» нет столь же прямого эпизода, сама тема бремени власти и опасности гордыни для правителя (что отчасти показано через Хродгара, неспособного защитить свой народ) является центральной для поэмы и была блестяще раскрыта Толкином в его лекции «Чудовища и критики».




