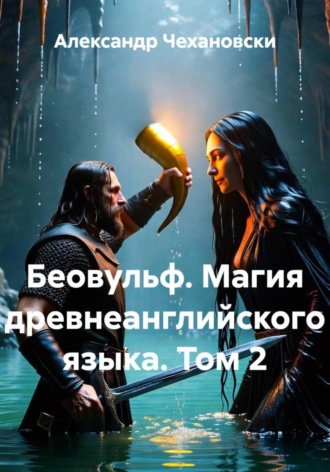
Полная версия
Беовульф. Магия древнеанглийского языка. Том 2
"Сигурд одолел дракона,
И память об этом подвиге
Не померкнет,
Пока жив род людской.
Но твой брат, увы,
Не решился
Ни в пламя ринуться,
Ни сквозь огонь скакать."
Брак Брюнхильды с Гуннаром стал результатом обмана и хитрости, включая зелье, заставившее Сигурда забыть об их былой любви. Брюнхильда страдает не только от потери Сигурда, но и от необходимости прибегать к уловкам. В отличие от стереотипно "женских" интриг, дева-воительница, подобно мужчинам-героям, предпочитает прямоту. Её месть осуществляется открыто, что приводит к трагической гибели её самой, Сигурда и сына Сигурда от Гудрун. Убийство ребенка демонстрирует её понимание законов кровной мести и сыновнего долга: выживший мальчик несомненно отомстил бы роду Брюнхильды.
Хотя Гудрун разделяет тревогу о судьбе своей семьи, она редко сразу переходит к активным действиям. Вместо прямого участия в битвах, она предпочитает вдохновлять своих мужчин-родственников на подвиги. Брюнхильда, осознавая невоинственный характер Гудрун, упрекает её в этом, заявляя: «Интересуйся лишь тем, что входит в круг твоих знаний. Сие пристало знатным дамам. Легко радоваться, когда всё складывается по твоему желанию».
Но в последующих браках Гудрун демонстрирует гораздо большую жестокость, не колеблясь убивать собственных детей, уничтожать целые залы огнём и отправлять выживших сыновей мстить за смерть её дочери Сванхильд. В мире скандинавских саг женщины, подобно героям-мужчинам, способны проявлять как благородство, так и беспощадность.
Валькирия из Хёрбю:
Значительная часть исследований, посвященных девам-воительницам, анализирует их как литературную конструкцию. Тем не менее, ряд исследователей уже давно высказывают предположение, что литературные изображения дев-воительниц указывают на присутствие подлинных женщин-воинов в эпоху викингов. В начале XX века в Нурре-Кьёлене было найдено женское захоронение с оружием, получившее название могилы девы-воительницы. Однако глубокое изучение этого явления началось только с привлечением текстологов. Престгаард Андерсен, Йеш и Йохенс приступили к анализу письменных источников. Нил Прайс отстаивает точку зрения об их реальном существовании. Вместе с тем, некоторые ученые, например, профессор Джудит Джеш, отмечают дефицит доказательств существования организованных женских военных формирований.
Археологические находки:
Чертеж могилы Бирка Bj 581 в Швеции, опубликованный в 1889 году, позволил обнаружить захоронения женщин-колонистов с оружием в руках, однако интерпретация этих находок вызывает до сих пор разногласия среди ученых. Раскопки в Англии и химический анализ останков периода активности викингов на Британских островах демонстрируют примерно равное соотношение полов, что может свидетельствовать о том, что поселенцы прибывали семьями, и некоторые женщины были захоронены вместе с мужьями.
В специальном выпуске, приуроченном к сериалу «Викинги», Нил Прайс показал, что могила Бирка Bj 581 X века, что содержит множество предметов вооружения и кости двух лошадей, по результатам анализа костей, проведённого Анной Кьеллстрём, оказалась женской могилой. В 2017 году анализ ДНК подтвердил, что это была женщина,так называемая «женщина-воин из Бирки».
Летописи свидетельствуют о случаях участия женщин в сражениях на стороне германских племён, с которыми Римская империя вела войны. Тем не менее, данные свидетельства немногочисленны, и, по мнению Германа Райхерта, подобное участие скорее являлось исключением, нежели распространённой практикой.
В эпоху викингов также встречаются упоминания о женщинах, принимавших непосредственное участие в военных конфликтах. Византийский хронист Иоанн Скилица зафиксировал факт сражения женщин в битве против византийских войск в Болгарии в 971 году во время похода Святослава Игоревича. После поражения варягов (отличающихся от византийской варяжской гвардии) в ходе осады Доростола, победители были изумлены, обнаружив среди убитых бойцов вооружённых женщин.
Предание гласит, что Фрейдис Эйриксдоттир, беременная сводная сестра Лейфа Эрикссона, находясь в Винланде, взяла меч и обратила в бегство нападавших скрелингов. Это событие описывается в «Саге о гренландцах», хотя Фрейдис прямо не характеризуется как воин.
5. Влияние древнеанглийского на языки Средиземья:Хотя квенья и синдарин имеют более сложную структуру и грамматику, чем древнеанглийский, влияние последнего все же прослеживается на уровне лексики и фонетики.
Архаизмы и поэтические обороты: Толкин часто использовал архаичные слова и выражения, характерные для древнеанглийской поэзии, чтобы придать своим текстам торжественный и эпический тон. Например, он использовал слова вроде «ere» (прежде), «thou» (ты) и «thy» (твой) в речи некоторых персонажей.
Аллитерация: Хотя Толкин не использовал аллитерацию так систематически, как в «Беовульфе,» он все же применял её в некоторых случаях, чтобы создать определенный ритм и эффект в своих текстах.
Кеннинги: Толкин не использовал кеннинги в чистом виде, но он создавал собственные метафорические выражения, которые напоминают кеннинги по своей структуре и функции. Например, он называл море «великой водой» или «соленым путем.»
В заключение, лингвистический аспект является одним из ключевых элементов, связывающих мир Толкина с «Беовульфом» и другими произведениями древнегерманской литературы. Использование англосаксонских корней в именах собственных, архаизмов и поэтических оборотов, а также влияние древнеанглийского на создание языков Средиземья, свидетельствуют о глубоком погружении Толкина в англосаксонскую культуру и его стремлении воссоздать дух древнего эпоса в своих произведениях.
7. Пейзажи и атмосфера:Мрачные и суровые пейзажи, характерные для «Беовульфа», находят отражение и в произведениях Толкина. Болота, пещеры, горы, леса – все эти места являются не простыми декорациями, но и символами, отражающими внутреннее состояние героев и атмосферу происходящих событий.
В «Беовульфе» болота, окружающие логово Гриндэля, символизируют хаос и тьму, противостоящие цивилизованному миру Хеорота. Во «Властелине Колец» Мертвые топи, через которые проходят Фродо и Сэм, также являются символом тьмы и разложения, напоминающим о прошлом и предостерегающим о будущем.
Пещеры, как в «Беовульфе» (логово матери Гриндэля), так и в «Хоббите» (пещера Смауга), являются местами обитания чудовищ и символизируют подсознание, страхи и скрытые опасности.
Горы, как в «Беовульфе» (где дракон охраняет сокровища в горной пещере), так и во «Властелине Колец» (Роковая гора в Мордоре), являются символами препятствий, трудностей и испытаний, которые приходится преодолевать героям.
Толкин умело создает атмосферу угрозы и опасности, используя описание мрачных пейзажей, темных ночей и зловещих звуков. Он также использует символические образы, такие как тьма, свет, вода и огонь, чтобы подчеркнуть моральные и духовные конфликты, происходящие в его произведениях.
8. Предметы и артефакты: От символического орудия к онтологической силе
Семиотика материальных объектов в нарративе претерпевает значительную эволюцию при переходе от древнегерманского эпоса к творчеству Толкина. Если в «Беовульфе» артефакты функционируют преимущественно как актанты, усиливающие или отражающие качества героя и социальные связи, то у Толкина они обретают собственную онтологическую субъектность, становясь активными действующими силами, способными формировать историю и переопределять волю персонажей.
Артефакты как социальные и героические актанты в «Беовульфе»
В мире «Беовульфа» предметы лишены самостоятельной магической воли; их ценность и сила проистекают из их происхождения и контекста использования. Меч Хрунтинг (древнеангл. Hrunting, возможно, от hrindan – «толкать», «наступать») является ключевым примером. Его дарование Унфертом представляет собой не просто передачу оружия, но ритуальный акт, скрепляющий временный союз между датским героем и геатом Беовульфом. Неудача Хрунтинга в битве с матерью Гренделя – его неспособность поразить чудовище – является не недостатком клинка, а нарративным приемом, подчеркивающим тщетность надежд, возложенных на договор с датчанами. Победа достигается не дарованным мечом, а древним гигантским клинком, найденным in situ, что символизирует возвращение к изначальным, досоциальным силам героизма.
Аналогичным образом, меч Наэглинг (древнеангл. Nægling, возможно, от nægl – «гвоздь», указывая на его прочность или конструкцию) служит инструментом для демонстрации пределов героического действия. Его разрушение в руках престарелого Беовульфа во время схватки с драконом маркирует момент столкновения человеческой доблести с непреодолимым роком (wyrd). Меч не «предает» героя; он ломается под давлением обстоятельств, которые превышают предел его, пусть и выдающихся, физических характеристик. Его поломка – это визуализация краха самого тела героя и исчерпанности его сил.
9. Трансформация артефактов у Толкина: От орудия к субъекту
Толкин, будучи филологом, глубоко понимал символическую функцию оружия в эпосе, но наделил артефакты в своем легендариуме принципиально иным статусом. Они становятся материальной воплощением воли, истории и метафизических законов.
Андурил (квенья «Пламя Запада»), будучи перекованным мечом Нарсила (квенья «Луна и Огонь»), наследует функцию знака легитимности, аналогичную дару Хрунтинга. Однако его символическое значение глубже. Это не только знак права Арагорна на престол, но и доказательство непрерывности истории, восстановления нарушенного порядка.
Каждый раз, когда клинок обнажают, он провозглашает возвращение законного короля, действуя как перформативный символ, чье наличие активно изменяет политическую реальность Средиземья. Его свет в руках Арагорна – это не отражение его личной доблести, а излучение сакральной власти, заключенной в самом артефакте.
Наиболее радикальное отличие от мира «Беовульфа» воплощает Кольцо Всевластья. Если мечи в эпосе – пассивные инструменты, то Кольцо является самостоятельным актором с собственной волей, что служит не просто символом власти или искушения, но также их концентратом и источником.
Его способность подчинять волю носителя, продлевать жизнь и делать невидимым выводит его за рамки категории орудия. Кольцо – это, по сути, персонаж-не-человек, антагонист, чье влияние является движущей силой сюжета. Его онтологический статус ближе к скандинавскому мифу о кольце Андвари, нежели к функциональным артефактам «Беовульфа». Его уничтожение становится не военной победой, а метафизическим актом, изменяющим саму структуру мира.
Сравнительный анализ показывает фундаментальный сдвиг в функции артефактов. В «Беовульфе» они служат продолжением и отражением человеческого мира: его социальных связей, доблести и трагических пределов. У Толкина артефакты обретают самостоятельное бытие, становясь узловыми точками, в которых концентрируются и высвобождаются силы истории, магии и зла. От пассивного символа чести, каким является Хрунтинг, толкиновские артефакты эволюционируют до статуса активных творцов и разрушителей миров, каким является Кольцо. Эта трансформация отражает помимо личного мифопоэтического замысла Толкина, его глубокое, критическое осмысление архаической традиции, которую он не копировал, а творчески переосмыслял.

Отрывок из «Беовульфа «eotenas ond ylfe ond orcneas, «йотуны, эльфы и дьявольские трупы», вдохновили Толкина на создание орков и эльфов Средиземья.
В «Хоббите» меч Оркрист, найденный гномами в пещере троллей, символизирует возвращение к героическому прошлому и их готовность бороться за свое наследство.
Аркенстон, что Бильбо находит в сокровищнице Смауга, является символом красоты и ценности власти, но также являясь источником раздора и жадности.
В обеих вселенных предметы и артефакты, что сопровождают героев, активно влияют на их судьбы, определяя моральный выбор, и исход событий.
10. Темы и мировоззрение
Борьба добра и зла:
Одной из центральных тем как в «Беовульфе,» так и в произведениях Толкина является борьба добра и зла. В «Беовульфе» эта борьба представлена в виде противостояния героя и чудовищ, угрожающих человеческому обществу. В произведениях Толкина эта борьба приобретает более масштабный и эпический характер, охватывая весь мир Средиземья.
В «Беовульфе» Гриндэль и его мать являются воплощением хаоса, тьмы и зла. Они нападают на людей из зависти и злобы, нарушая порядок и гармонию. Беовульф, как представитель добра и порядка, должен сразиться с ними, чтобы защитить свой народ и восстановить справедливость.
Во «Властелине Колец» Саурон является абсолютным злом, стремящимся к мировому господству и уничтожению всего доброго и светлого. Он представляет собой тиранию, деспотизм и разрушение. Фродо, как представитель добра и надежды, должен уничтожить Кольцо Всевластия, чтобы спасти Средиземье от тьмы.
В обеих вселенных борьба добра и зла является не только внешней, но и внутренней. Герои должны бороться со своими собственными страхами, слабостями и искушениями, чтобы остаться верными своим идеалам и выполнить свою миссию.
Толкин, как и автор «Беовульфа,» придерживается дуалистической картины мира, где добро и зло находятся в постоянной борьбе. Однако, он также подчеркивает важность морального выбора и ответственности каждого человека в этой борьбе.
Героизм и самопожертвование:
Мотив героизма и самопожертвования является одним из ключевых в «Беовульфе» и произведениях Толкина. Герои готовы рисковать своей жизнью и отдавать все ради защиты других, ради достижения благородной цели.
В «Беовульфе» герой отправляется в Данию, чтобы помочь королю Хродгару и его народу, рискуя своей жизнью в борьбе с Гриндэлем и его матерью. В конце своей жизни, Беовульф сражается с драконом, защищая свой народ, зная, что это может стоить ему жизни. Его самопожертвование является примером истинного героизма и преданности.
Во «Властелине Колец» Фродо добровольно берет на себя миссию по уничтожению Кольца Всевластия, зная, что это путешествие будет полным опасностей и лишений. Он жертвует своей жизнью, своим домом и своим будущим ради спасения Средиземья. Сэм Гэмджи, его верный друг и спутник, также проявляет героизм и самопожертвование, поддерживая Фродо на протяжении всего его пути.
Толкин подчеркивает, что истинный героизм заключается не в силе и славе, а в готовности отдать себя ради других, в способности преодолеть страх и сомнения и остаться верным своим идеалам.
Судьба и свобода воли:
В «Беовульфе» понятие судьбы (wyrd) играет важную роль. Герои осознают, что их жизнь предопределена, и принимают свою судьбу, проявляя мужество и достоинство. Несмотря на это, они не являются пассивными жертвами судьбы, а активно действуют и принимают решения, определяющие их жизнь.
Во «Властелине Колец» тема судьбы также присутствует, хотя и не так явно. Герои часто оказываются в ситуациях, когда им приходится полагаться на провидение и верить в то, что их усилия не напрасны. Фродо, например, чувствует, что его выбор не случаен, и что он был избран для выполнения этой миссии.
Толкин, однако, подчеркивает, что судьба не является абсолютной и неизменной. Герои обладают свободой воли и могут влиять на ход событий своими действиями и решениями. Фродо, несмотря на тяжесть своей ноши, может сопротивляться искушению Кольца и остаться верным своей цели.
Баланс между судьбой и свободой воли является одной из ключевых философских тем в произведениях Толкина. Герои должны принимать свою судьбу, но при этом не терять надежду и веру в свои силы.
Утрата и память:
Тема утраты и памяти является одной из самых глубоких и трогательных в «Беовульфе» и произведениях Толкина. В обоих произведениях чувствуется ностальгия по ушедшей эпохе героев и величию прошлого.
В «Беовульфе» смерть Беовульфа и гибель его народа знаменуют собой конец героической эпохи. Поэма пронизана элегическим настроением, оплакивающим утрату и бренность всего сущего.
Во «Властелине Колец» тема утраты проявляется в уходе эльфов в Валинор, в разрушении старых королевств и в осознании того, что старые порядки уходят в прошлое. Фродо, вернувшись в Шир, понимает, что он уже не тот, что был прежде, и что мир вокруг него изменился навсегда.
Толкин подчеркивает важность сохранения памяти о прошлом и передачи знаний будущим поколениям. Эльфы, как хранители мудрости и истории, играют важную роль в сохранении памяти о прошлом. Знание истории, традиций и культуры является ключом к пониманию настоящего и будущего.
Тема утраты и памяти напоминает нам о ценности прошлого, о необходимости ценить настоящее и о важности передачи знаний и опыта будущим поколениям.
11. Заключение

Анализ показывает, что «Беовульф» оказал глубокое и всестороннее влияние на творчество Дж. Р. Р. Толкина. Влияние это прослеживается на всех уровнях: от сюжетных мотивов и архетипов персонажей до лингвистических деталей, пейзажей, тем и философского мировоззрения.
Сюжетные параллели: Толкин позаимствовал из «Беовульфа» основные сюжетные мотивы, такие как героический путь, борьба с чудовищами, мотив дракона и сокровищ, тема гибели героя и элегическое настроение.
Архетипы персонажей: Беовульф послужил прототипом для создания таких персонажей, как Арагорн, а Гриндэль и другие чудовища – для Голлума, Саурона и Шелоб.
Лингвистическое влияние: Толкин, как филолог и знаток древнеанглийского языка, использовал имена, языковые конструкции и стилистические приемы, вдохновленные «Беовульфом» и англосаксонской поэзией, для создания атмосферы древности и эпичности в своих произведениях.
Образы и детали: Пейзажи, описываемые Толкиным, и символизм предметов, таких как мечи, доспехи и кольца, также несут на себе отпечаток «Беовульфа».
Темы и мировоззрение: Борьба добра и зла, героизм и самопожертвование, судьба и свобода воли, утрата и память – все эти ключевые темы, присутствующие в произведениях Толкина, находят свои корни в «Беовульфе».
Таким образом, «Беовульф» стал для Толкина не просто объектом научного изучения, но и источником вдохновения, питавшим его творческое воображение и формировавшим его мировоззрение. Произведения Толкина, в особенности «Хоббит» и «Властелин Колец», являются не просто сказочными историями, но и глубокими философскими размышлениями о природе человека, о борьбе добра и зла, о ценности памяти и о неизбежности перемен. Благодаря своему глубокому знанию «Беовульфа», Толкин смог создать уникальный и незабываемый мир Средиземья, что продолжает вдохновлять читателей по всему миру.
Глава 5: «Беовульф» сегодня: Адаптации в современной культуре
«Беовульф» – это не просто древний текст, а живая история, которая продолжает вдохновлять художников, писателей, кинематографистов и других творцов. В этой главе мы рассмотрим некоторые из наиболее интересных и значимых адаптаций «Беовульфа» в современной культуре, уделяя особое внимание деталям и анализу.

1. Литература
Джон Гарднер, «Грендель» (1971): Этот роман – не просто пересказ древнеанглийской поэмы. Гарднер берет за основу знакомый сюжет, но радикально меняет точку зрения. Мы видим события глазами Гренделя, чудовища, нападающего на Хеорот. Это позволяет автору исследовать глубинные вопросы: что значит быть «монстром»? Что такое «зло» и откуда оно берется? Грендель предстает перед нами как философствующий изгой, разочарованный в мире и лишенный возможности найти свое место в нем. Он задает вопросы о смысле жизни, природе реальности и границах человеческого понимания. Роман использует мотивы «Беовульфа» для создания сложного и многослойного произведения, которое заставляет читателя задуматься о природе человечности и монструозности.
Поул Андерсон, «Беовульф 14-й» (1958): Эта повесть представляет собой интересную попытку перенести героический эпос в научно-фантастический сеттинг. Действие происходит в далеком будущем, где группа землян исследует дикую планету, населенную враждебными существами. Один из членов экспедиции, киборг по имени Беовульф 14-й, должен сразиться с этими существами, чтобы защитить своих товарищей. Андерсон использует мотивы «Беовульфа» для создания захватывающего и атмосферного научно-фантастического произведения, которое исследует темы героизма, долга и жертвенности.
Ниель Гейман и Роджер Авери, «Беовульф» (сценарий к фильму, 2007): Сценарий Геймана и Эвери представляет собой смелую и оригинальную интерпретацию «Беовульфа». Он углубляет психологию персонажей, добавляет новые сюжетные линии и исследует темы искушения, власти и наследия. Сценарий акцентирует внимание на отношениях Беовульфа с Хротгаром и матерью Гренделя, создавая сложную и многозначительную историю о героях, которые сталкиваются с моральными дилеммами и трагическими последствиями своих решений.
Многие другие авторы использовали мотивы, образы и темы «Беовульфа» в своих произведениях, создавая собственные версии этой древней истории.
2. Кино
«Беовульф» (2007), Роберт Земекис: Герой эпохи цифрового барокко и авторское переосмысление
Адаптация Роберта Земекиса – не одна из многоих экранизаций древнего эпоса, но в первую очередь, масштабный авторский манифест, где технология становится не инструментом, но главным средством высказывания. Фильм является плодом творческого союза режиссёра и сценаристов Нила Геймана и Роджера Эвери, которые написали первоначальный сценарий ещё в 1997 году. Важно подчеркнуть, что Земекис экранизировал не оригинальную поэму, а её радикальную интерпретацию американскими авторами, их провокационное и психологизированное видение мифа.
Изначально Эвери, должен был выступить режиссёром, планируя создать камерную и мрачную экранизацию с минимальным бюджетом. Однако, когда к проекту в 2005 году подключился Земекис, концепция кардинально изменилась. Его знаменитая фраза, обращённая к сценаристам: «Нет ничего, что вы могли бы написать и что обошлось бы мне в миллион долларов за минуту съёмок. Дайте волю фантазии!» – стала ключевым принципом производства. Это привело к масштабным переделкам, в частности, к полной трансформации финальной битвы с Драконом в грандиозное зрелище. Таким образом, фильм с самого начала был задуман как гимн кинематографической свободе и технологическому максимализму.
Технология как содержание и метаформа: Земекис использует технологию performance capture (захват движения и мимики) не просто для создания «реалистичной графики», а как sophisticated метафору для исследования самой природы героического мифа. Цифровые тела актёров, лишённые мелких человеческих изъянов, предстают идеализированными, почти скульптурными формами. Это визуальное решение – прямая отсылка к процессу мифотворчества: саги и поэмы всегда приукрашивают и гиперболизируют реальность, превращая людей в легенды. Земекис буквально воплощает этот процесс, делая его основной эстетикой фильма. Как отмечал Рэй Уинстон (Беовульф), работа в motion capture позволила ему полностью погрузиться в роль, подобно театру: «Можно было погрузиться в сцену, как в театре, и полностью отдаться ей… Ты действительно погружался в сцену, и твой уровень энергии сохранялся».
Визуальный ряд фильма – это цифровое барокко: битвы с Гренделем и Драконом являются кинематографическим аналогом пиршественной поэзии скальдов, где каждый удар гиперболизирован, а кровь брызжет фонтанами. При этом аниматоры приложили титанические усилия, чтобы сохранить в цифровых двойниках черты актёров. Любопытно, что молодой цифровой Беовульф оказался похож на 18-летнего Уинстона, хотя у создателей не было для этого reference-фотографий. Для создания монстров, связанных родственными узами, была использована общая золотистая цветовая гамма и элементы дизайна: у Дракона, сына Беовульфа и матери Гренделя, специально были смоделированы глаза и скулы Рэя Уинстона.
Провокационное прочтение: Фрейдистский подтекст и авторский замысел: Самый смелый ход Геймана, Эвери и Земекиса – психоаналитическая и деconstructivistская интерпретация мифа. Фильм предлагает «разгадку» сверхъестественного через призму человеческих страстей и пороков, выводя на первый план темы искушения, лжи и родового проклятия.
Грендель (Криспин Гловер, чьи диалоги полностью на древнеанглийском) – не просто злобный тролль, а несчастный, искалеченный сын, мстящий за убийство своего отца-тролля королём Хродгаром. Его образ, с проплешинами на коже, обнажающими внутренности, – это визуализация глубокой душевной и физической боли.


