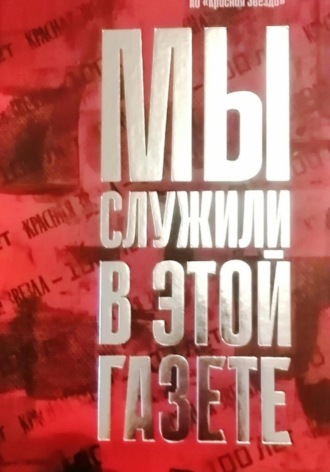
Полная версия
Мы служили в этой газете
ЛУЧШИЕ ГОДЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ
81

Тогда еще я не знал, что министр обороны Устинов, назначая Чернавина командующим флотом, получившим неудовлетворительную оценку по итогам учебного периода при прошлом командующем Егорове, давал Чернавину два года на «реанимацию» СФ. Стрельба «Юмашева» была последней на этой инспекционной проверке. Все остальные от стра-тегических ракет до береговой артиллерии флот уже выполнил на «отлич-но». И впервые, по крайней мере, в послевоенной истории Вооруженных Сил адмирал Чернавин был удостоен звания Героя Советского Союза «за успешное командование флотом в мирное время»…
Чернавину я предложил написать книгу о зарождении подводного атомного флота. И мы закончили ее, когда он уже стал главкомом ВМФ.
С Пановым у меня отношения вроде бы выровнялись. Хотя однажды, на совместном застолье, его жена – человек прямой и искренний – ска-зала: «Сережа, вы не думайте, что Иван Митрофанович такой мягкий и пушистый. Если что, он кого угодно в бараний рог согнет!».
Уходя, Макеев написал представления на Панова и на меня. Его – на должность главного редактора, меня – на должность ответственного секретаря. Об этом мне потом поведала наша «секретчица». По какой-то причине, известно только Ивану Митрофановичу, меня не назначили на должность ответственного секретаря.
Я помню свою последнюю встречу с Макеевым. Николай Иванович, уже в отставке, зашел по каким-то делам в редакцию. И вдруг я увидел его идущим по третьему этажу редакции. Никогда в прежние годы я не видел его нигде, кроме второго этажа.
– Николай Иванович, не хотите посмотреть, как живет военно-морской отдел?

Встреча моряков «Красной звезды» с главкомом ВМФ С. Горшковым. 1984 г.
82 ЛУЧШИЕ ГОДЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ

Он чуть улыбнулся. Мы зашли сначала в комнату отдела, а потом
в мой кабинет. Николай Иванович сел на один из стульев напротив моего стола. Разговор был легкий и недолгий. По обыкновению Макеев больше слушал. Из своего «запасника» я вытащил тельняшку и пода-рил главному:
– Николай Иванович, на флоте издавна считают тельняшку симво-лом морской души. Считайте, что душа военно-морского отдела будет всегда с вами.
Больше живым Великого главного редактора «Красной звезды» я уже не видел. А вот с Пановым мы общались так, будто даже воспоми-нания о наших совместных десяти годах были под запретом. Как-то, отвечая на телефонный звонок в своем кабинете, я услышал в трубке голос Лилии Сергеевны Пановой.
– Ой, Сережа, здравствуйте, я машинально набрала прежний номер Вани…
В этом была вся Лилия Сергеевна: прямой, честный и искренний человек. Ошибившись со звонком и услышав мой голос, она просто могла молча положить трубку. Но ей и в голову это не пришло.
– Лилия Сергеевна, я рад вас слышать…
Далее мы поговорили несколько минут, а закончили разговор так:
– Сережа, что-то вы совсем перестали у нас бывать.
– Ну, это вопрос к Ивану Митрофановичу.
– Нет, в доме хозяйка я, поэтому как скажу, так и будет. Но, конечно, ничего не изменилось. Да и не могло.
Зато, когда действительно нужен был результат, Панов не раз об-
ращался ко мне. Так случилась, когда из Севастополя пошли суровые жалобы на нашу критическую публикацию. Ее автор, бывший кор-респондент «Красной звезды» по ЧФ капитан 1 ранга запаса Коровин жестко покритиковал одну семью, которая взяла шефство над ветераном ВОВ, взамен получив дарственную на его квартиру. «Шефы» – работница высокого ранга флотского военторга и ее гражданский муж (от чьего имени шли жалобы) были очень любезны с ветераном, пока не получи-ли дарственную. Коровин славился как очень въедливый журналист. Его критические публикации всегда были безупречны и имели мощный ре-зонанс. А тут вроде осечка. Первая жалоба пришла в «Красную звезду» – газета «погасить» ее не сумела. Вторая – уже в Главное политическое управления, и оттуда делегировали на флот аж начальника отдела печа-ти полковника Сарина. После его возвращения жалобщики обратились в ЦК КПСС. И Панов сильно струхнул. Пригласил меня.
ЛУЧШИЕ ГОДЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ
83

– Сережа, публикация не по вашему отделу. Но ситуация безвы-ходная, а вы, когда соберетесь (ничего так комплимент. – Авт.), можете разобраться в сложной ситуации…
В Севастополе я, конечно, встретился со всеми участниками кон-фликта. Ясно было, что Коровин прав, что семейная парочка действует внаглую… Но главное – мне удалось выявить «главную действующую пружину»: секретаря парткомиссии Черноморского флота. Это он благоволит работнице военторга и даже восстановил ее в партии. (В то время шла легкая чистка партийных рядов в армии и на флоте.) Вот
к нему я и заявился. Наглый капраз – с места в карьер:
– Да вы понимаете, что находитесь в кабинете секретаря партко-миссии…
– А вы понимаете, что я сотрудник центрального органа Министерства обороны, являющегося управлением Главпура? Так вот, если жалобы от вашей подопечной не прекратятся, то в следующий раз мы приедем разбираться с вами. И начнем с необоснованного восстановления в партии вашей знакомой, которую парторганизация военторга признала недостойной находиться в рядах КПСС.
Все! Жалобы прекратились. А ведь севастопольская парочка не просто жаловалась, а стремилась заблокировать признание дарствен-ной на квартиру ничтожной.
У Панова были приятельские отношения с Тимуром Гайдаром, заведующим военным отделом «Правды». Но относился он к нему, на-сколько я заметил, иронично-снисходительно, на что, наверное, были причины, ведь когда-то они вместе работали и в «Советском флоте», и в «Красной звезде». Так вот Тимур обратился к Панову с просьбой сочинить им передовую статью, посвященную Вооруженным Силам. Во молодцы, целым отделом не могли сотворить! Через своего зама полковника Бориса Пендюра Панов спустил это задание мне. Ну, я написал, в «Правде» слегка подкорректировали и опубликовали. Тимур пригласил меня к себе, поблагодарил и ничтоже сумняшеся объявил, что мне за передовицу заплатят половину гонорара – 35 рублей, а вторую половину сотруднику отдела, который статью правил. Больше такого нахальства я никогда нигде не встречал, о чем и поведал Панову, который тоже был поражен. И когда на свет божий всплыла фигура ти-муровского сынка, начавшего упоенно крушить советскую экономику, я ничуть не удивился.
Из Министерства обороны газете было спущено указание развернуть борьбу с «дедовщиной» (на флоте – «годковщиной»),
84 ЛУЧШИЕ ГОДЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ

захлестнувшей армию и флот. Панов на редколлегии не без сарказма поручил вести кампанию мне. Ну, организовать звон вокруг этой проблемы было несложно. А вот действительную борьбу? И я решил для начала вскрыть истинную причину «неистребимости» этой самой «дедовщины». А заключалась, да и по сей день заключается она в том, что офицеры всех уровней предпочитают ее замалчивать, скрывать, ибо открытость наказуема. Очень немногие решались на решитель-ную борьбу с этой самой настоящей уголовщиной. На Северном флоте
я знал два таких примера. Когда капитан 1 ранга Анатолий Кузьмич Жахалов принял под командование крейсер «Александр Невский», он ужаснулся состоянием дисциплины в экипаже, которым в открытую правили «годки». За месяц Жахалов отдал под суд несколько десятков зарвавшихся старослужащих. Вздрогнул не только экипаж крейсера, но и флот. Жахалова затребовал к себе тогдашний член Военного совета (ЧВС) вице-адмирал Падорин:
– Вы что творите! – закричал было на командира крейсера адмирал.
– Навожу порядок, товарищ адмирал, – спокойно ответил Жахалов. – На моем крейсере уголовщины не будет.
И не стало. Так же как и на тяжелом авианесущем крейсере «Киев», приняв который капитан 1 ранга Владимир Николаевич Пыков быстро навел там образцовый порядок. Его тоже журило командование за излишнюю жесткость. Но, как писал в своих воспоминаниях Пыков: «По окончании моего командования «Киевом» кораблю дали орден «Красного Знамени» – единственный случай в истории ВМФ СССР, когда корабль стал Краснознаменным в мирное время».
Первые же наши откровенные публикации на тему «дедовщи-ны» получили шквальный отклик читателей. Идею открытости, последовательности, твердости в борьбе с этим видом уголовщины в Вооруженных Силах подхватили командиры, политработники, воен-ные прокуроры… Людей окрыляла возможность честно и открыто вы-сказаться по всех «доставшей» проблеме, надежда наконец-то обрести реальные возможности в ее решении. Газета печатала по несколько окликов в день. Положительно стали высказываться в пользу нашей акции военачальники высокого ранга… И тут окрик министра обороны Язова: «Прекратить!..». По крайней мере, так обосновал свое решение свернуть нашу акцию главный редактор Панов.
А вот акция нашего отдела в рамках ВМФ, активно поддержанная главкомом ВМФ адмиралом флота В.Н. Чернавиным, все-таки была доведена до конструктивного конца. Называлась она «Авторитет
ЛУЧШИЕ ГОДЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ
85

плавсостава» и была направлена на пересмотр некоторых сложивших-ся «немилосердных» стереотипов в отношении корабельных мичма-нов, офицеров и прежде всего – командиров кораблей. По сути дела, они были лишены возможности общаться с семьями даже при нахож-дении кораблей в базе, уход в отпуск считался счастливым стечением обстоятельств, на санаторные путевки могли рассчитывать только счастливчики, как и на получения жилья, а поступление командиров кораблей в Военно-морскую академию вообще было перевернуто с ног на голову. Лучшие командиры, достигшие права командовать больши-ми кораблями, обычно не укладывались в возрастные ограничения, установленные для офицеров, поступающих на очное отделение. Ибо путь сухопутного лейтенанта до командира батальона, полка гораздо короче, чем у флотского лейтенанта до командира корабля 2 ранга. Не говоря уж о корабле 1 ранга.
Газета опубликовала боле 20 статей и корреспонденций флотских офицеров. Что интересно, нас поддержали офицеры и других видов Вооруженных Сил. А в заключение 21 марта 1987 года было опубли-ковано мою интервью с Чернавиным под рубрикой «Военные кадры: долг и ответственность». В частности, Чернавин сообщил: «Создана специальная комиссия во главе с первым заместителем главнокоман-дующего ВМФ адмиралом флота Н. Смирновым, которая занимается вопросами повышения авторитета плавсостава. Именно она сейчас прорабатывает конкретные предложения, высказанные в публикациях «Красной звезды», поступившие с флотов».
В продолжение этой акции я предложил Владимиру Николаевичу провести его встречи с лейтенантами. Главком – и лейтенанты. Такого не было отродясь. А ведь такая встреча для многих молодых офицеров станет путеводной звездой.
Когда Чернавина назначили главкомом ВМФ, я попросил оставить для нашего общения, в том числе и по готовящейся книге, его время
в полетах. Идея была принята сразу. И первое «турне» с главкомом было – на ТОФ. Сначала Камчатка, потом Совгавань и – Владивосток. Вот на Камчатке и состоялась первая встреча лейтенантов с главкомом. Довольны были все. И даже Панов.
Вообще, надо сказать, он поощрительно относился ко всяким моим творческим «заскокам». Я ежегодно отправлялся на боевую службу в Средиземное море, во второй раз сходил на атомной подводной лодке подо льдами Арктики с Северного на Тихоокеанский флот, два месяца провел в воюющей Анголе…
86 ЛУЧШИЕ ГОДЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ
ПЕРЕЛОМ

Шел 1991 год. Обстановка в стране была весьма сомнительной. Приходилось задумываться о будущем, в том числе и родной газеты. Становилось ясно, по крайней мере мне, что ее экономическая зави-симость от министерства обороны становится опасной. Вот тогда я предложил Панову идею создания малого предприятия «Красная звезда», которое бы с одной стороны закрепило единство редакции, издательства
и типографии, а с другой – позволило бы автономно распоряжаться заработанными средствами. Поскольку такая тенденция становилась популярной в стране, Панов ее одобрил, но дистанцировался: поручил мне заниматься учредительством. Соответствующее письмо с обоснова-ниями я написал в адрес министра обороны за своей подписью. Пошло оно наверх через Главпур. И каково же было мое, да и Панова, изумле-ние, когда нам из Главпура пришла копия этого письма, но уже подпи-санная тогдашним начальником Главного политического управления Вооруженных Сил СССР (именно так стала величаться эта должность с января 1991 г.) генерал-полковником Шлягой Николаем Ивановичем. То есть возглавить это предприятия решил он. Нас с Пановым это нисколь-ко не смутило, наоборот – это означало, что идея будет реализована, причем весьма эффективно. Шляга назначил мне встречу… Но это была середина августа. И вскоре грянул путч под названием ГКЧП.
А далее начало рушиться все, что можно было разрушить. Одним из инструментов «демократических преобразований» в Вооруженных Силах стала комиссия по реорганизации политических органов, которую возглавил бывший наш главный идеолог, а теперь «главный демократ» генерал-полковник Волкогонов. «Красной звезде» была дана команда провести выборы нового главного редактора.
Помню собрание по этому поводу в зале летучек. Специально его не готовили. Кандидатов выдвигали спонтанно. Кто-то предложил капитана 1 ранга Владислава Лукашевича, а редактор отдела культуры полковник Юрий Теплов и редактор отдела Сухопутных войск полков-ник Геннадий Миранович – меня. Их поддержало восемьдесят процен-тов творческого коллектива. Моя программа была краткой: добиться экономической самостоятельности «Красной звезды» как комбината, сохранить весь коллектив, максимально используя наклонности каж-дого человека: творческие, организаторские, предпринимательские.
Через несколько дней меня пригласили на «малую» комиссию по реорганизации политических органов, которую возглавлял
ЛУЧШИЕ ГОДЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ
87

капитан-лейтенант Ненашев, своевременно оказавшийся в числе рьяных сторонников Ельцина. В целом, надо сказать, «малая» комиссия меня под-держала. И мне даже понравился реализм Ненашева. А вот на комиссии, возглавляемой Волкогоновым, как я понял, вопрос о главном редакторе повис в воздухе. Новоявленный рьяный демократ в генеральских по-гонах Волкогонов совершенно не интересовался реальным настоящим
и ближайшим будущем главной газеты министерства обороны. А как раз в это время, после очередного повышения цен на газетную бумагу, «Красная звезда» впервые стала убыточной. То есть, по сути, беспомощ-ной. Волкогонов захлебывался в критике нынешней линии газеты, позво-лившей себе даже критику Ельцина, взывал к каким-то решительным идеологическим переменам, которые и сформулировать-то толком не мог. Но главное стало ясным: демократично заявленные выборы – блеф.
Дня через два после заседания этой комиссии меня пригласил к себе начальник Управления информации Министерства обороны гене-рал-майор Валерий Манилов. Встретил он меня приветливо, сказав, что одобряет выбор коллектива «Красной звезды». Вообще-то мы неплохо знали друг друга. Мы оба пришли в «Красную звезду» в 1972 году, оба в 1976 году стали заместителями редакторов отделов. Он – пропаганды, я – БП ВМФ. Дружить не дружили, но активно общались. Нас тогда была тройка, как говаривали, самых работящих заместителей редакторов отделов: Манилов, Мороз и я.
Под чай с хорошими конфетами я изложил свой план спасения газеты. Первое. Раз бумага резко подорожала, немедленно договориться с Кондопожским целлюлозно-бумажным комбинатом: Минобороны выделяет им батальон строителей для замены разнорабочих, они нам – прежние цены. Второе. Ни в коем случае не разделять редакцию, издательство и типографию. Третье. Минобороны покупает бумажный комбинат. Любой, желательно там, где в нашем ведении есть большие лесные массивы. И тогда – создать акционерное общество на базе всех этих производств при главенствующей роли редакции. Генеральным директором назначить делового и влиятельного в МО человека. Сам я готов возглавить всю организационную работу.
Валерий Леонидович сразу мой план одобрил:
– Изложи все это на бумаге. На днях мы летим с министром Шапошниковым в командировку. Думаю, удастся решить вопрос с твоим назначением.
Не удалось. Манилов сетовал, что маршал выслушал его как-то безучастно и ничего не ответил. Ничего не ответил он и главкому ВМФ
88 ЛУЧШИЕ ГОДЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ

адмиралу флота В. Чернавину, который тоже пробовал похлопотать за меня, когда узнал об обстановке в редакции.
– Это не ваше личное дело, Сергей Иванович, – сказал он мне. – Это наше общее дело. И я обязательно зайду к министру.
А дальше потекли недели и месяцы. Появился новый претендент – сотрудник нашей редакции Владимир Косарев, заручившийся чьей-то серьезной поддержкой. Он был уверен в своем назначении. Но
в середине 1992 года главным редактором неожиданно для всех был назначен капитан 1 ранга Владимир Чупахин.
У главкома ВМФ адмирала флота В. Чернавина. 1990 г.

В 1978 году, через два года после моего назначения заместителем редактора военно-морского отдела, мне удалось уговорить Панова от-пустить меня послужить постоянным корреспондентом по Северному флоту. Через год он взял в отдел из «Флага Родины» Владимира Чупахина. Когда я вернулся в 1982 году на место редактора отела ВМФ, Чупахин оказался уже в моих заместителях. Журналист он был хороший, но как работник – вяловатый, малоинициативный. Наверное, работать со мной ему не доставляло удовольствия, и в конце концов Чупахин отпросился в отдел очерка и публицистики. Потом моим заместителем был назначен Сергей Турченко и наконец – Александр Пилипчук. Ему я и хотел оставить отдел, увольняясь в запас по своей воле в 50 лет. Капитан 1 ранга Пилипчук, конечно, был достоин должности члена редколлегии. Талантливый журналист и не менее талантливый организатор. Но во-енно-морского отдела в прежнем виде не стало…
Надо отдать должное, Чупахин сам был поражен, когда его представление на должность заместителя редактора отдела очерка и публицистики обернулось назначением на должность заместителя главного редактора газеты. Да и в главные редакторы он не метил.
ЛУЧШИЕ ГОДЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ
89

Скрытые пружины всего этого процесса так и остались непонятными для коллектива.
Наверное, на должности главного, Чупахин сделал все, что мог. Да, смутные времена достались и Панову, и его последователям во
главе «Красной звезды». Думаю, что Иван Митрофанович отчетливо это сознавал. Все-таки мужик он был невероятно умный. Это ценил в нем и Макеев, двигая на свое место и опасаясь «прихода к власти» в газете своего извечного оппонента Федора Халтурина. Тому не повезло буквально чуть-чуть. Если бы назначение его покровителя генерал-пол-ковника Лизичева на должность начальника Главпура состоялось хоть на месяц раньше, Федор Халтурин взошел бы на краснозвездовский пьедестал. И что бы было? А то, что произошло в газете «Ветеран», главным редактором которого был определен генерал-майор Халтурин. Он сам собрал коллектив, который в конце концов его отторг.
В последний раз мы свиделись с Пановым перед самой его кончиной
в мае 2006 года. На сборе ветеранов в «Красной звезде» по случаю Дня Победы я не увидел Панова. А Иван Иванович Сидельников мне сказал:
– В госпитале Мандрыки Иван лежит. Рак легких. Я его зимой встретил, не узнал. Говорю: «До чего ж ты себя довел?!».
Да, в отставке все встало на свои места, и Панов для Сидельникова так и остался одним из подчиненных.

Три редактора отдела БП ВМФ за время его существования в неурезанном виде:
(справа налево): М. Новиков, И. Панов, С. Быстров
90 ЛУЧШИЕ ГОДЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ

Дня через два я был в палате у Панова. Как в былые времена привез особо признаваемые нами продукты: бутылку хорошего армянского ко-ньяка и баночку черной икры… Панов все мгновенно понял и оценил. Все-таки по натуре человек он был тонкий. И я все-таки всегда буду благодарен судьбе за то, что она свела меня с ним.
Мы окунулись в наши воспоминания, мы разговаривали также открыто и проникновенно, как когда-то в лучшие времена. И он, интересуясь моей газетой «Воздушный флот», опять говорил мне ком-плименты, которые напрочь выкинул было из своего лексикона, став главным редактором. Он попросил оставить ему наш семейный альбом
с фотографиями многих лет, где были мои дачи, наши посиделки… Я пообещал, что в следующий раз Таня (моя жена) нажарит ему куриных крылышек – его любимого блюда. Вот только слетаем на Кипр на две недели. Но он не дождался…
Я
прослужил в «Красной звезде» 21 год. Большую часть – в пору ее наивысшего расцвета. Лучшее время в моей жизни.
КАК Я СТАЛ КРАСНОЗВЕЗДОВЦЕМ
91


Кузьма ПАШИКИН,
полковник в отставке,
корр. отдела вузов
и вневойсковой подготовки (1974–1978 гг.)
Признаться, я не стремился
в центральный печатный орган Министерства обороны. Меня вполне устраивала работа в редакции газеты «Красный воин» Московского военно-го округа. Но однажды мне позвони-ли из «Красной звезды». На том конце провода оказался редактор по отделу вузов и вневойсковой подготовке полковник Васильев Николай Ильич.
– Я знаю, что вы были недавно
в Тульском военном артиллерий-ском училище, – сказал он. – Не могли бы вы написать что-либо на курсантскую тему?

92 КАК Я СТАЛ КРАСНОЗВЕЗДОВЦЕМ
Я ответил, что готов написать зарисовку о двух второкурсниках, братьях-близнецах, которые со школьной скамьи мечтали стать офи-церами. Тема полковнику понравилась. Я написал. До сих пор помню заголовок: «Одержимые мечтой». Материал был опубликован на темати-ческой курсантской странице «Азимут». Редакторские поправки в тексте были незначительные, и это было приятно для меня как автора. Через некоторое время снова последовал звонок от полковника Васильева. На этот раз Николай Ильич предложил встретиться в редакции «Красной звезды» для беседы. Встреча состоялась. Он предложил мне перейти на работу к нему в отдел. Это предложение было для меня не только заманчивое, но и почетное. Высказал сомнение: а справлюсь ли?
– Справитесь, – сказал Николай Ильич, – публикация о братьях-кур-сантах – лучшая рекомендация для вас.
Об этом разговоре я доложил руководству окружной газеты: если отпустите – пойду, а нет – буду и дальше работать в «Красном воине».
Редактор газеты Дмитрий Сергеевич улыбнулся:
– Молодец, что честно сказал. А то некоторые уходят с черного хода, ставят меня уже перед совершившимся фактом. Задерживать вас не будем…
Потом состоялась решающая беседа с заместителем главного ре-дактора «Красной звезды» генерал-майором Сидельниковым Иваном Ивановичем. Итог собеседования в одном слове Сидельникова – «в приказ».
Я быстро понял, что творческая планка здесь несравненно выше, чем в «Красном воине». Особенно убедительно высота творческой планки проявлялась на редакционных летучках, проходивших по вторникам. Сначала докладчик (обозреватель за минувшую неделю) называет ту или другую статью нужной, полезной, необходимой и т.д. Однако после этого следует многозначительное «Но» и начинается главное. Дескать, тема только обозначена, но не раскрыта полностью, статья не доработана. Словом, загубили тему. И вот другой недоста-ток: герой очерка или зарисовки поступает вопреки всякой логике







