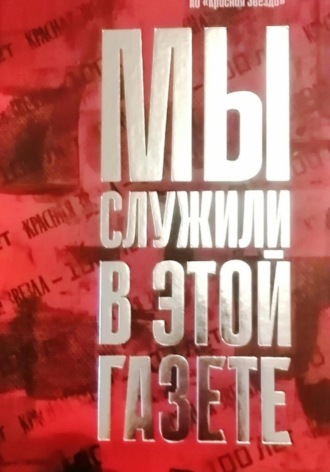
Полная версия
Мы служили в этой газете
и здравому смыслу… В жизни так не бывает, это противоречит чуть ли не всем законам природы. И так далее, и прочее. В ответ следуют не менее убедительные контрдоводы и аргументы. Начинается твор-ческая дуэль, ломаются интеллектуальные копья, каждая из сторон отстаивает свою позицию. Кто же прав? Дежурный докладчик или его оппоненты? Это выясняется позже, когда ведущий летучку – главный редактор или кто-то из его заместителей, подведет итог творческой

КАК Я СТАЛ КРАСНОЗВЕЗДОВЦЕМ
93

дискуссии. После некоторых летучек я иногда специально перечитывал материалы, подвергшиеся особой критике. Пытался понять: как этот дежурный докладчик обнаружил такие недостатки в нормальной вроде бы публикации.
В «Красной звезде» предъявлялись не только высокие требования к качеству подготовленных материалов, но и ответственность за приво-димые в них факты, примеры. Если в номер идет пусть даже небольшая информация от отдела вузов, то нервотрепка предстоит изрядная. То
у дежурного члена редколлегии возникают неожиданные вопросы к материалу, то у главного редактора или его заместителя, ведущего номер. И каждый раз надо быть готовым убедительно ответить, разъяс-нить. Помнится, написал я срочный отчет о расширенном совещании в Министерстве обороны СССР. Оно состоялось в первой половине дня, я прибыл в редакцию, в авральном темпе написал отчет прямо в номер газеты. Вдруг мне звонит дежурный редактор генерал-майор Федор Николаевич Халтурин и спрашивает:
– Вы перечисляете, кто сидел в президиуме совещания. Среди прочих называете генерал-майора Чурбанова. А вы уверены, что он генерал-майор? По моим сведениям, он должен быть уже генерал-лей-тенантом. Поймите правильно, это не просто генерал, а зять Брежнева. Даю вам десять минут, чтобы уточнить и доложить.
Ох уж эти десять минут! Сколько нервотрепки потребовалось, чтобы в цейтноте дозвониться до разных инстанций! Хорошо, что я имел привычку записывать в специальный блокнот телефоны разных организаций, учреждений. Нашел телефон дежурного по МВД, позво-нил. Там ответили, что о повышении звания Чурбанову конкретно сказать ничего не могут, потому что пока об этом не слышали. Звоню в другую инстанцию, в третью… И постепенно картина стала ясной: Чурбанов пока – генерал-майор. Об этом и доложил Халтурину. Он строго предупредил меня: исправлять ничего не будем под вашу ответственность. Лишь через две недели стало официально известно о присвоении Чурбанову очередного звания. Требовательная крас-нозвездовская «кухня» прививала сотрудникам газеты особое чувство ответственности при подготовке материалов в газету, вырабатывала потребность проверять и перепроверять подлинность приводимых в тексте фактов, примеров, имен и фамилий.
От руководителя такого большого коллектива, как «Красная звезда», требуются мудрость, такт, умение находить общий язык с людьми раз-ных характеров, взглядов на жизнь, на корню пресекать нежелательные
94 КАК Я СТАЛ КРАСНОЗВЕЗДОВЦЕМ

проявления в отношениях между людьми, сплачивать коллектив. И вместе с тем всегда оставаться наставником. Всеми этими качествами обладал Николай Иванович Макеев. Вспоминаю одну редакционную летучку. Обозревателем газеты за минувшую неделю был полковник Виктор Филатов. Он довольно подробно проанализировал материалы газеты, отметил их плюсы и минусы, а потом кавалерийским наскоком прошелся по материалам нескольких авторов, в том числе и моему. Договорился до того, что такие материалы для газеты, дескать, не нуж-ны, читать их неинтересно. Подводя итоги летучки, Николай Иванович подчеркнул, что газета издается не для праздного чтения, что названные обозревателем материалы нужны газете, коль они опубликованы. Ибо они несут читателю нужную информацию. Главный редактор сделал особый упор на то, что обозревателю нужно более уважительно отно-ситься к творчеству своих товарищей, а не хаять огульно и голословно их публикации. Макеевская «Красная звезда» пользовалась авторитетом не только в больших городах, но и в далеких сельских местностях. Я часто приезжал в родное село Журавкино, что в Мордовии. Нередко под-ходили ко мне сельчане и говорили: «Читал я твою статью в «Красной звезде». Правильно ты написал». От таких признаний душа моя радова-лась не потому, что мои земляки читали именно мою статью, а потому что они среди многих других печатных изданий отдавали предпочтение именно «Красной звезде». Чувство гордости вызывал у меня сам факт, что моя любимая газета находит путь к сердцам моих земляков.
Особенно запомнился мне еще один случай. В «Красной звезде» отмечали шестидесятилетие главного редактора. Чтобы не отрывать весь коллектив от дела, мероприятие было организовано так: сотруд-ники отделов поочередно заходили в кабинет главного редактора поздравить его с юбилеем. Дошла очередь и до отдела вузов. Редактор отдела полковник Васильев и я зашли в кабинет главного. Николай Иванович достал из шкафа бутылку водки и налил нам с Васильевым по рюмке. На отдельном столике – закуска. Честно говоря, я оробел. Ну как можно выпить в присутствии главного редактора! Держал в руках рюмку, а выпить не решался. Николай Иванович сказал с улыбкой:
– Сегодня здесь выпить можно не только полковникам, но и ка-питанам.
После этих слов мою робость, как ветром сдуло. Я выпил, от всей души поздравил Николая Ивановича с юбилеем и среди прочего по-желал ему как можно дольше оставаться у руля корабля под гордым названием «Красная звезда» …
ШЕСТЬ ЛЕТ ИЗ СТА
95


Владимир ЧУПАХИН,
капитан 1 ранга в отставке,
корр. отдела БП ВМФ (1979–1982 гг.), зам редактора отдела БП ВМФ (1982–1986 гг.), спецкор отдела очерка
и публицистики (1986–1987 гг.),
зам главного редактора
(1987–1992 гг.),
главный редактор
«Красной звезды» (1992–1998 гг.)
1 января 2024 года «Красной звезде» исполняется 100 лет. 6 лет из этих ста газетой выпало руко-водить мне. 6 лет – не так уж и мало. Тем более что на мою долю достался чрезвычайно сложный, драматический и не похожий ни на какие другие исторический период – 1990-е годы. Один мудрец сказал, что «даже самые плохие времена с годами превращают-ся в хорошие воспоминания». Конечно, без неизбежной ноты горечи и душевной боли тут не обойдешься, но на память

96 ШЕСТЬ ЛЕТ ИЗ СТА

приходят, прежде всего, люди, с которыми я вместе переживал лихое безвременье и стремился что-то очень важное и дорогое защищать, утверждать, отстаивать.
«ВДОЛЬ ОБРЫВА ПО-НАД ПРОПАСТЬЮ…»
После трагических событий 1991-го славная история «Красной звезды» вполне могла разом оборваться. Августовских триумфато-ров, победивших так называемый путч, словно быков, раздражало все «красное», вся советская символика. Генерал Д.А. Волкогонов на одном из заседаний Верховного Совета РСФСР вынес газете приговор: «Красная звезда» идеологически готовила путч. Демократы «первой волны» заговорили о смене названия органа, «девоенизации» редак-ции, «деидеологизации» содержания газеты, «независимости» от воен-ного ведомства, радикальном сокращении штата, «акционировании» полиграфической базы. Кое-кто из «реформаторов» договорился даже до того, чтобы оставить военному ведомству только «бюллетень» для публикации приказов.
Мы в редакции не стали ждать, пока кто-то свыше решит нашу судьбу. На собрании творческого коллектива была создана «комиссия по реформе», которой предстояло выработать конструктивные пред-ложения. Ее председателем краснозвездовцы доверили стать мне, а заместителями были избраны начальник издательства и типографии Н.И. Костышин и политобозреватель газеты С.С. Пашаев. По поручению главного редактора генерал-лейтенанта И.М. Панова мы готовили для разных инстанций обращения в защиту «Красной звезды», разрабаты-вали проекты нового штата редакции и нового редакционного устава. В сентябре 91-го Панов возложил на меня еще одну миссию – отстаивать наши позиции в качестве «эксперта» в Комиссии по упразднению политорганов в армии и на флоте, которую возглавлял Волкогонов.
А точнее – в составе подкомиссии, решающей судьбу военных СМИ. Потом меня сменил Сергей Пашаев, который проявил себя тогда в качестве одного из самых активных борцов за спасение газеты. Свой вклад вносили и парламентские корреспонденты «Красной звезды» Владимир Ермолин и Олег Одноколенко, которые наработали хорошие связи среди депутатов и правительственных чиновников. Владимиру и Олегу удалось убедить председателя Госкомитета РФ по оборонным вопросам Павла Грачева в том, что при решении судьбы «Красной звезды» нельзя рубить с плеча. И осенью 91-го нам удалось отбиться.
ШЕСТЬ ЛЕТ ИЗ СТА
97

Однако все тревоги вновь всколыхнулись в мае 1992-го, когда я уже был назначен главным редактором. Создавалась Российская армия, и нам надо было встроиться в этот процесс. После развала СССР и ликви-дации Минобороны СССР статус «Красной звезды» как «Центрального органа Министерства обороны СССР» стал эфемерным. «Звездочка»
с января 92-го выходила как «Ежедневная газета Вооруженных Сил». Каких, спрашивается, Вооруженных Сил? Российских еще не было.

«Красная звезда» остро нуждалась в решении множества правовых, кадровых и финансовых вопросов. Но мы находились в «бесхозном» состоянии, надеяться было не на что и не на кого. После того как, нако-нец, началось строительство Вооруженных Сил России, разного рода «доброжелатели» принялись вдувать в уши только что назначенному министру обороны РФ П.С. Грачеву, что в новой армии все должно быть по-новому, в том числе и газета. Вместо «Красной звезды» предлага-лось учредить совсем иное издание – «Армию России». Во время моей первой встречи с Грачевым состоялся тяжелый разговор на эту тему. Все висело на волоске, а помогли не деловые аргументы, а, в общем-то, случайная деталь. Я знал, что, помимо Золотой Звезды Героя, Грачев за боевые действия в Афганистане получил и орден Красной Звезды. «Не думаю, Павел Сергеевич, что для вас этот орден устарел или де-вальвировался», – сказал я. – «Но-но! Орден не трожь! Это моя первая
98 ШЕСТЬ ЛЕТ ИЗ СТА

боевая награда, омытая кровушкой моей. В тех боях, за которые мне ее дали, я дважды ранен был». – «Тогда непонятно, чем название газеты, омытое кровушкой фронтовых корреспондентов, вам не угодило? – Сыграл на чувствах генерала я, – «Красная звезда» – не просто газета. Это история, традиции, душа армии, если хотите». «Душа? – наморщил лоб Грачев. – Наверное, ты прав, редактор. Быть посему». 5 июня 92-го министр приехал в редакцию и во время встречи с журналистским коллективом на свежем оттиске первой полосы, готовой к подписанию, начертал: «Центральный орган Министерства обороны РФ». В тот бла-гословенный день на нас вообще пролилась «манна небесная»: Грачев утвердил решение о выделении крайне необходимого финансового транша на издание газеты, согласился поднять планку авторского гонорара в «Звездочке» с 500 рублей за номер до 8 тысяч, а вдобавок еще и выделил редакции пять квартир.
Честно говоря, после того, как с подачи Панова и по решению Главкома ОВС СНГ маршала Е.И. Шапошникова состоялось мое довольно неожиданное для меня самого назначение главредом, я думал, что в такой непредсказуемой ситуации мне уготована роль «редактора-ками-кадзе». Мысленно отводил на свое пребывание в должности 3–4 месяца,
в лучшем случае – полгода. Однако судьба отвела шесть с лишним лет. И чем дальше они уходят в прошлое, тем чаще вспоминаются как один из самых ярких периодов в моей жизни. И мне за него, право слово, не стыдно. Время было смутное, но работать было интересно. Довольно долго никто из больших начальников сам толком не понимал, о чем теперь должна писать «Красная звезда», а о чем не должна. Рушились стереотипы, запреты и секреты. По большому счету, до середины 97-го, когда либерал-реформаторской властной верхушке во главе с А.Чубайсом встанет поперек горла самостоятельность и зубастость центральной военной газеты, а некоторые военачальники, взяв по козырек, начнут всячески придушивать ее, никто в нашу профессиональную «кухню» всерьез не влезал. Можно было делать ту газету, какую мы сами счи-тали нужным делать, и это приносило удовлетворение. Наш ветеран, заместитель ответственного секретаря и редакционный острослов Олег Борисович Баронов как-то пошутил: «Нам в «Красной звезде» нынче так мало платят, что писать правду ничего не стоит».
Мне повезло с редакционным коллективом. К этому моменту редак-ция состояла из признанных «мэтров» военной журналистики, опытных журналистов среднего поколения, вошедших в пору творческого расцве-та, а также из большой когорты молодых дарований. К числу первых я
ШЕСТЬ ЛЕТ ИЗ СТА
99

относил, прежде всего, Алексея Петровича Хорева, Юрия Николаевича Беличенко, Михаила Федоровича Реброва, Петра Ивановича Алтунина, Юрия Тарасовича Грибова, Владимира Михайловича Житаренко и многих других. Им в затылок дышали Анатолий Кричевцов, Владимир Гавриленко, Александр Пилипчук, Олег Фаличев, Валентин Руденко, Валерий Бабердин, Владимир Каушанский, Николай Поросков, Дорофей Гетманенко. К молодому поколению краснозвездовцев принадлежали Анатолий Стасовский, Сергей Князьков, Борис Солдатенко, Александр Пельц, Владимир Матяш, Василий Фатигаров, Александр Иванов, Александр Долинин, Сергей Пятаков, Юрий Пирогов.
Впрочем, есть возможность, не полагаясь на память, назвать имена многих других коллег из того сплава опыта и молодости, из которого был отлит коллектив 90-х. В моем архиве сохранился выпуск внутриредакционной мно-готиражки «Красная звездочка», посвященный 70-летию газеты (декабрь 93-го). На его централь-ном развороте – коллаж из фото и рисунков, созданный краснозвез-довцем Владимиром Марюхой. Он сумел передать в аллегорической форме образ редакции той поры. Сам я, правда, оказался изображен в весьма рискованном виде стра-стотерпца с терновым венком на голове, пришпиленного гвоздем к

символической звезде, что, не скрою, сильно смутило. Я даже попенял Василию Семенову, который отвечал за выпуск юбилейной многотираж-ки. На что Семенов серьезно ответил: «Вообще-то все мы нынче «рас-пяты» на нашей «Звезде». И каждого можно изображать с терновыми венцами на головах…».
Таких зашифрованных смыслов Семенов и Марюха заложили немало. К примеру, в руку Владимиру Попову художник вложил меч. Почему? Володя, корреспондент отдела молодежных проблем, стал нашей первой боевой потерей, получив тяжелое ранение в зоне гру-зино-абхазского конфликта. Слава Богу, выжил, но военную службу
100 ШЕСТЬ ЛЕТ ИЗ СТА

вынужден был оставить. Первый заместитель главреда Мороз Виталий Иванович изображен со щитом с надписью «Арсенал». Это название придуманной им «фирменной» рубрики, которая велась долгое время. Тогдашнее послабление цензорских ограничений дало возможность подробнее рассказывать об образцах отечественной боевой техники и вооружения. И оказалось, что это очень интересует наших читателей.

Анатолий Докучаев и Владимир Урбан на коллективном портрете подпирают руками символическую «Звезду». На моих молодых и энер-гичных замах и впрямь очень многое в ту пору держалось. Докучаеву, помимо ведения номеров, приходилось тянуть два тяжеленных «воза» – кадровую работу и подписные кампании. Такая нагрузка не мешала Анатолию Ивановичу регулярно выдавать на газетные полосы инте-ресные материалы. В частности, он изобрел неординарный подход к ос-вещению исторической тематики, придумав рублику «Книга военных рекордов». Под ней публиковался большой цикл исследовательских материалов об уникальных боевых достижениях, установленных в разные времена и в разных войнах на суше, в воздухе и на море.
ШЕСТЬ ЛЕТ ИЗ СТА
101

Володя Урбан – человек, которому комфортно было жить в непре-рывном потоке новостей. После его назначения я иногда стал позволять себе то, что не позволял ранее: мог, скажем, иной раз пропустить про-грамму «Время». Потому как знал: минут за 15 до утренней планерки Владимир проинформирует меня обо всем случившемся за последние часы, выскажет предложения, что стоит ставить в номер. Отвечая за освещение политических процессов в стране и событий в «горячих точках», Урбан, как и Докучаев, оставался активно пишущим журна-листом. В частности, системно занимался освещением малоизвестных или вовсе неизвестных страниц Первой мировой войны, преданных в советское время забвению.
Ответственный секретарь Вячеслав Лукашевич изображен на юбилейном коллаже с ножницами, что не требует пояснения. А вот надпись на плакате рядом с ним – «Белое и красное» – отсыл к вы-шедшему в 1993 году поэтическому сборнику Вячеслава, в котором,
в частности, были такие строчки: «Пью белое вино за красных, /Пью красное вино за белых. / Но вина перепутывать – незрело, / А смеши-вать – тем более опасно». Это, конечно, не столько про вина, сколько про политику, ведь Лукашевич уже несколько лет был политобозре-вателем газеты. В 90–91 годах он еженедельно печатал политические обозрения под рубрикой «Семь дней». Серия этих публикаций стала многомесячной «проповедью» во имя сохранения Советского Союза. Так получалось, что чаще других под критический прицел Вячеслава попадали представители так называемого «демократического лагеря» – Анатолий Собчак, Гавриил Попов, Николай Травкин, Юрий Афанасьев. Прошелся он и по злопамятному и мстительному Волкогонову. Но глав-ным «прегрешением» Лукашевича, которое ему потом припомнили, было то, что он позволил себе задеть самого Ельцина в публикации, называвшейся «Ельцин – еще не вся Россия». После августовских со-бытий участь Вячеслава могла быть печальной, если бы не Панов. Он принял решение «поставить политобозревателя на паузу», и подпись «Лукашевич» на три с лишним месяца исчезла со страниц, пока все не улеглось. А весной 92-го я решил, что именно Слава лучше всех подходит на роль ответственного секретаря. Прекрасный стилист, он имел еще и опыт работы ответсеком флотской газеты «Страж Балтики». Вячеслав со своей кипучей натурой, стремлением выйти за привычные рамки был способен в должности «начальника штаба» зажигать искру творческих исканий в других журналистах и ставить барьер на пути посредственности.
102 ШЕСТЬ ЛЕТ ИЗ СТА

Вызывает улыбку то, что на нашем коллективном портрете члены редколлегии изображены в одеяниях «апостолов». Александр Ткачев, Александр Ковалев, Василий Семенов, Юрий Рубцов, Олег Одноколенко, Владимир Кузарь, Владимир Житаренко, Иван Иванюк, Геннадий Миранович, Анатолий Белоусов… Каждый из этих журналистов оста-вил в моей памяти свой след.
СМЕЛОСТЬ ЖУРНАЛИСТА – ЭТО ДОБЛЕСТЬ,
А
СМЕЛОСТЬ ГЛАВРЕДА – ОЧЕНЬ ЧАСТО ПРОСТО ГЛУПОСТЬ

В декабре 92-го произошла крайне неприятная ситуация, приведшая к временному снятию
с должностей редактора отдела боевой подготовки Сухопутных войск Геннадия Мирановича и его заместителя Олега Владыкина. Миранович стоял за то, чтобы газета, несмотря политические страсти, бушевавшие вокруг армии, оставалась «лаборато-рией» военной мысли. С подачи Геннадия Дорофеевича появилась рубрика «Военное строительство: проблемы и решения». Состояние «военной мысли» в начале 90-х было не ахти какое, но все-таки какие-то разработки, идеи появлялись. Одному из
таких проектов и была посвящена статья «Мобильные силы России», которую на основе бесед с командующим ВДВ генерал-полковником Евгением Подколзиным подготовил Владыкин. В ней рассказывалось о возможном, но пока еще гипотетическом варианте развития ВДВ, на основе которых могло быть создано некое оперативно-стратегическое объединение для выполнения задач в локальных и региональных кон-фликтах. По большому счету статья носила дискуссионный характер. Но минут за 15 до подписания номера консультант по охране военных тайн в печати потребовал на заседании редколлегии снять статью. Я
ШЕСТЬ ЛЕТ ИЗ СТА
103

вызвал Владыкина: «У вас есть виза Подколзина?» – «У меня не только виза, но даже диктофонная запись беседы с ним». И я решил: «Печатаем так, как есть». Конечно, если б знать, чем все обернется, может, лучше было отложить публикацию статьи на день-другой. Мой бывший шеф, наставник, учитель и просто мудрый человек Иван Митрофанович Панов, помнится, как-то сказал в назидание: «Смелость журналиста – это доблесть, а вот смелость главного редактора – очень часто просто глупость». Наутро мы трое – я, Миранович и Владыкин – стояли на ковре у начальника Генерального штаба Колесникова. Генерал был
в ярости, что мы якобы безответственно раскрыли великую тайну. Наших аргументов он и слушать не желал. Кончилось тем, что мне на пару с генералом Подколзиным объявили по строгому выговору, а ребят понизили в должностях на одну ступень. В моем случае взы-скание обернулось, помимо прочего, тем, что из проекта уже готового к подписанию президентского Указа о присвоении генеральских и адмиральских званий фамилия «Чупахин» была вычеркнута.
Позже Евгений Николаевич Подколзин побывал у нас в редакции и прояснил подоплеку происшедшего. Дело было вовсе не в статье, а в конфликте Колесникова и Подколзина. Начальник Генштаба ревниво относился к стремлению десантного генерала усилить роль ВДВ, видел в этом какую-то угрозу себе, вот и использовал ситуацию для того, чтобы нанести удар по тому, кого счел опасным соперником. Грачев предпочел остаться в стороне: не стал защищать ни верного ему Подколзина, ни тем более меня. Особый сарказм заключался в том, что никаких «мобильных сил» никто на самом деле создавать не собирался. Года через полтора на одном из совещаний руководящего состава Минобороны довелось услышать из уст Колесникова: «Какие еще мобильные силы? Вся армия должна быть мобильной…».
После возращения из Генштаба я сказал Мирановичу и Владыкину: «Для меня вы ни в чем не виноваты. Работайте, как работали, будто ничего не случилось». Геннадий формально стал числиться «редакто-ром отдела спорта», но по-прежнему руководил Сухопутным отделом, а Владыкин формально стал «старшим консультантом», но исполнял обязанности заместителя редактора отдела. Их должности я держал вакантными целый год, а к 70-летию «Красной звезды» взыскания были сняты, и все вернулось на круги своя.
В конце 1993 года Геннадий Миранович возглавил укрупненный отдел – боевой подготовки и жизни войск. В нем были объединены 4 прежних видовых направления – Сухопутных войск, Ракетных войск
104 ШЕСТЬ ЛЕТ ИЗ СТА ШЕСТЬ ЛЕТ ИЗ СТА 105


и ПВО, ВВС и ВМФ. Это был период вынужденного реформирования
патриотической идее. Но весной 92-го само слово «патриотизм» было
целого ряд редакционных структур, вызванного тем, что в новом
опасным: можно было получить ярлык «красно-коричневого», «комму-
сокращенном штате уменьшилось число членов редколлегии. Кроме
нофашиста», «ретрограда», «совка». Воинствующий антипатриотизм и
того, жизнь требовала создания ряда новых структур – например,
продажный коллаборационизм претендовали на подобие официально







