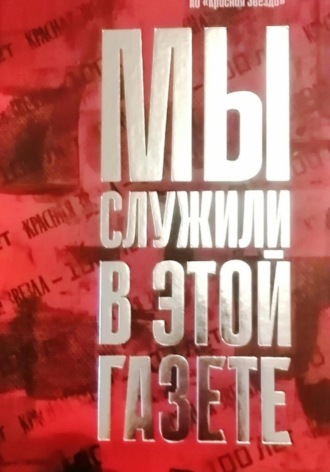
Полная версия
Мы служили в этой газете

Александр Пилипчук, Юрий Теплов, Сергей Быстров
Мы служили в этой газете
АО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»
Москва
2023
УДК 355
ББК 68
Г 52
Книга предназначена для широкого круга читателей
В
сборнике представлены воспоминания краснозвездовцев разных лет. Воспоминания выстроены в ранжир, соответ
-
ствующий началу работы авторов в «Красной звезде».
© С. Быстров, А. Пилипчук, Ю. Теплов. 2023 © Оформление АО «Красная Звезда». 2023
3

Вопрос об издании всеармейской военно-политической газеты был поставлен 22 октября 1923 года начальником Политуправления Реввоенсовета СССР Владимиром Антоновым-Овсеенко на III Всесоюзном совещании по политработе в Красной Армии и на флоте. Он же и вошел в состав редколлегии издания, получившего название «Красная звезда», совместно с заведующим Агитпромом ЦК РКП(б) А.С. Бубновым и заведую-щим отделом печати ЦК Я.А. Яковлевым, главнокомандующим Вооруженными Силами республики С.С. Каменевым и извест-ным литературным критиком В.П. Полонским.
Первый номер «Красной звезды» вышел 1 января 1924 года. Статус газеты был обозначен как «ежедневная военная газета». Известно, что в первоначальный период ее выпуском непосредственно руководил освобожденный от дру-гих обязанностей Яблонский Адам Адамович, который ранее редактировал «Красный воин» – печатный орган Московского военного округа.
С февраля 1924 по октябрь 1929 г. ответственным редактором газеты был Андрей Бубнов, оставаясь начальником политуправ-ления РВС и РККА.
С 7 декабря 1929 по 17 ноября 1930 г. – Гамарник Ян Борисович, одновременно начальник Политуправления РККА, заместитель председателя Реввоенсовета СССР и заместитель наркома обороны СССР, армейский комиссар 1 ранга.
С 17 ноября 1930 по 28 октября 1937 г. – Ланда Михаил Маркович, первый ответственный редактор, освобожденный от других обязанностей, армейский комиссар 2 ранга.
4 5
С 29 октября 1937 по 5 мая 1940 г. – Барандов Григорий
армии и флота, обороноспособности страны, патриотическому
Васильевич, полковой комиссар.
воспитанию подрастающего поколения.
С 6 мая 1940 по 25 апреля 1941 г. – Болтин Евгений
Роль «Красной звезды» особо ярко проявилась во вре-
Арсеньевич, генерал-майор.
мя Великой Отечественной войны. Тогда в редакционный
С 25 апреля 1941 по 29 июня 1941 г. – Богаткин Владимир
коллектив влился «писательский призыв». Сотрудниками
Николаевич, одновременно начальник политуправления –
«Звездочки», как называли на фронте газету, стали Константин
член военного совета Московского военного округа, корпусной
Симонов, Михаил Шолохов, Илья Эренбург, Петр Павленко,
комиссар.
Алексей Сурков, Федор Панферов, Василий Ильенков, Евгений
С 1 июля 1941 по 30 июля 1943 г. – Ортенберг Давид
Габрилович, Василий Гроссман, Евгений Петров и другие. На
Иосифович, генерал-майор.
страницах газеты печатались Алексей Толстой, Александр
С 31 июля 1943 по 19 марта 1945 г. – Таленский Николай
Твардовский. Надели военную форму и писатели, попавшие
Александрович, генерал-майор.
до войны в опалу – Андрей Платонов, Александр Авдеенко. В
С 20 марта 1945 по 18 сентября 1949 г. – Фомиченко Илларион
первом уже фронтовом номере газеты были напечатаны стихи
Яковлевич, генерал-майор.
поэта Василия Лебедева-Кумача «Священная война», которые он
С 20 сентября 1949 по 29 марта 1953 г. – Московский Василий
продиктовал в редакцию по телефону. Положенные на музыку
Петрович, генерал-майор.
композитором Александром Александровым, они стали гимном
С 4 апреля 1953 по 7 апреля 1954 г. – Штырляев Владимир
защиты Отечества.
Иванович, назначенный не ответственным, а уже главным
В годы войны погибли семнадцать краснозвездовцев, де-
редактором, генерал-майор.
вять были ранены. Борис Лапин и Захар Хацревин погибли в
С 8 апреля 1954 по 14 декабря 1955 г. – Московский Василий
бою, пробиваясь с батальоном из окружения. Краснозвездовец
Петрович, повторно.
Леонид Вилкомир находился в самолете, когда он был подбит и
С 15 декабря 1955 по 12 июля 1985 г. – Макеев Николай
загорелся. Летчик лейтенант Маслов направил горящую маши-
Иванович, генерал-лейтенант.
ну на скопление мотопехоты противника. Корреспондент газе-
С 13 июня 1985 по 26 марта 1992 г. – Панов Иван
ты Евгений Петров, соавтор Ильфа по романам «12 стульев» и
Митрофанович, генерал-лейтенант.
«Золотой теленок», погиб 2 июля 42-го, возвращаясь на самолете
С 27 марта 1992 по 29 мая 1998 г. – Чупахин Владимир
в редакцию из Севастополя. Александр Шуэр погиб, поднимая
Леонидович, капитан 1 ранга.
бойцов в атаку. Скорбный список погибших краснозвездовцев
С 6 августа 1998 г. по настоящее время – Ефимов Николай
пополнили также Сергей Сапиго, Леонид Лось, Петр Крылов,
Николаевич, полковник.
фотокорреспондент Михаил Бернштейн, Петр Олендер, писа-
Авторитет газеты формирует ее творческий коллектив. На
тель-фантаст и сценарист Михаил Розенфельд… 67 журналистов
протяжении столетия в стенах «Красной звезды» сменилось не
газеты награждены орденами.
одно поколение журналистов, закладывавших на полигонах и
О том, как краснозвездовцы 1960–1990-х годов продолжа-
на полях сражений военкоровские традиции, присущие только
ли лучшие традиции «Красной звезды», рассказывают они
главной газете Вооруженных сил государства. Орденоносное
сами в сборнике «Мы служили в этой газете». Афганистан
знамя редакции на протяжении века оставалось незапятнан-
и Приднестровье, Чечня и Таджикистан, Абхазия и Южная
ным. Когда в тяжелые для страны и ее Вооруженных сил 90-е
Осетия, районы армяно-азербайджанского и грузино-абхазско-
годы российские издания начали, как хамелеоны, менять
го конфликтов, война в Персидском Заливе и другие «горячие
свои политические цвета, «Красная звезда» оставалась верной
точки» на планете, землетрясение в Спитаке и авария на
своему предназначению – служить укреплению боеготовности
Чернобыльской АЭС, подледные плавания и лыжные переходы
6 С «ЛЕЙКОЙ» И БЛОКНОТОМ 7


на Северный полюс, подъем на самую высокую горную верши-ну России Эльбрус – это только часть адресов командировок краснозвездовцев. Редакция несла потери: 31 декабря 1994 года погиб кавалер трех боевых орденов спецкор полковник Владимир Житаренко. Ранее в Абхазии был ранен корреспон-дент Владимир Попов. Некоторое время пробыл в заложниках у боевиков корреспондент Василий Фатигаров. Многие журнали-сты газеты награждены государственными наградами.
Обо всем этом – от авторов сборника.

Станислав ГРИБАНОВ,
полковник в отставке,
посткор по ГСВГ (1964–1968 гг.), корр. отдела ВУЗов (1968–1970 гг.), корр. отдела литературы и искусства (1970–1971 гг.),
корр. отдела писем (1971–1972 гг.), корр. отдела БП ВВС (1972–1977 гг.)
«Красная звезда», или
как по-домашнему, просто и
ласково мы называли ее «наша
Звездочка», была моей первой и
единственной газетой. Началось
все в Германии, в той части ее, ко-
торую предали и которой не ста-
ло, как не стало страны с гордым

названием «СССР». Наш полк –
гвардейский, Сталинградский,
Венский, многих боевых наград –
стоял ближе всех остальных
истребительных авиаполков

к границе с миром толстого
кошелька. Когда американцы
8 С «ЛЕЙКОЙ» И БЛОКНОТОМ

наглели, залетали шпионить на нашу территорию, их сбивали. Так что служба проходила спокойно, уверенно, можно сказать, по-деловому. Но однажды командир полка приказал весь личный состав построить на аэродроме, прямо на взлетной бетонной полосе, что раньше случалось довольно редко. Так что настроение у всех было приподнятое – так-то, вот, полком собирались только по праздникам да на митинги по поводу очередного исторического пленума в Кремле – мартовского или октябрьского. В таких случаях и руководство полка всем своим видом как бы подчеркивало торжественность момента. А тут отцы-ко-мандиры, похоже, не спешили сообщить, «пошто собрали-то народ»,
о чем-то переговаривались между собой… Наконец, командир полка, великолепный летчик и вообще лихой мужик – исполнитель под гитару-то убойных нэпманских романсов – взял у замполита листок какой-то бумаги, отделился от группы стоящих с ним, и отработанным командирским рыком как даст: «Капитан Грибанов, выйти из строя!» Мигом прекратились разговоры моих однополчан. Наступила тишина. Казалось, что даже аэродромные жаворонки притихли. Тогда, хлопнув по плечу впереди стоящего, чтобы тот пропустил меня, я отсчитал несколько шагов, остановился, сделал поворот лицом к полку и замер.
«Слушай приказ!» – откуда-то, словно с седьмого неба, донесся до меня голос командира полка. На секунду-вторую он сделал паузу и в это мгновение, почему-то готовясь к суровому приговору, я пере-числил в уме все возможные грехи пилота, рядового неба: на бабах не погорел, на пьянках – тоже; если пил, то со всеми вместе, всей эскадрильей… А когда услышал слова приказа, что сам министр обо-роны СССР в честь юбилея газеты «Красная звезда» награждает меня, неизвестного капитана, именными золотыми часами, в моем сердце и в голове волнение не отлегло, а напротив, от неожиданности перед глазами, как в зоне на пилотаже, все заиграло яркими звездочкам, будто чертики от радости запрыгали…
Вскоре пришел приказ о переводе меня в Центральный орган Министерства обороны СССР – посткором при Группе советских войск в Германии. Потом я думал, как решился главный редактор главной военной газеты Николай Иванович Макеев доверить ответственную боевую вахту военного корреспондента, не работавшего ни в дивизион-ке, ни в армейской, ни в окружной печати. Дяди где-то там в верхах, в вышестоящих инстанциях у самого молодого автора газеты не было, ну окончил редакторское отделение Военно-политической академии им. В.И. Ленина, ну уже опытный, классный летчик – и что? Откровенно
С «ЛЕЙКОЙ» И БЛОКНОТОМ
9

говоря, из полка я долго не решался предложить какие-то свои мате-риалы для одной из самых популярных в стране газет. Но однажды написал от руки несколько страниц очерка под названием «Королева», ждал ответа из редакции и в дни сбора заочников академии отважился зайти в «Красную звезду».
Мать честная, такой встречи с людьми незнакомыми я никак не ожидал! На всю жизнь остались для меня добрыми друзьями и настав-никами – не только в журналистике – фронтовики Николай Котыш и тезка Станислав Ковалев, тоже летчик-истребитель. Они, конечно, уже прочитали тогда мою «Королеву» и вместе с восторженной оценкой материала, первого знакомства друг с другом я уходил из «Красной звезды» с кучей заданий: написать очерк о летчике-участнике войны – как он передает боевой опыт молодым; статью об освоении новой авиационной техники; репортаж с борта истребителя; что-то еще…
Николай Тимофеевич Котыш подарил мне тогда свою книгу с надписью: «Станиславу Грибанову – моему собрату, влюбленному в небо, огненному истребителю и будущему А. Экзюпери. Держи, друже, максимальный эшелон!»
А со Станиславом Ивановичем мы, как товарищи по оружию – летчики-истребители в «Доме журналистов» приняли на грудь; после закрытия кабака уже вместе с официантками пошли «на второй круг». Тогда я исполнил свой коронный номер: в полной тишине выжал на столе стойку. Потом медленно, можно сказать, раздумчиво стал переходить на одну руку и замер. Тут, естественно, последовал взрыв аплодисментов, всеобщий восторг… Ну, что еще сказать о первом знакомстве? Да, француз Экзюпери, конечно, был большой писатель среди летчиков. И летчик среди писателей. А вот среди вилок, ножей
и рюмок стоять на одной руке не умел! Понятно, что в такой веселой ситуации счет за поляну официантки «Домжура» подсунули нам дважды – дуры что ли. Но, согласитесь, деньги – мелочь жизни. Тот же Экзюпери заметил, что нет ничего дороже, чем радость простого человеческого общения…
Я тогда летал в исследовательском истребительном авиаполку Липецкого Центра, академию заканчивал заочно и писал в «Красную звезду» о своих однополчанах, с кем первыми в стране покоряли новые боевые машины со скоростями больше двух звуковых. Очерки «Он подарил мне небо», «Мой комэск», «Мечте навстречу», пара корреспон-денций в газете – вот весь багаж, с которым меня приняли в свой кол-лектив краснозвездовцы, с которыми я и проработал 15 нелегких, но
10 С «ЛЕЙКОЙ» И БЛОКНОТОМ

радостных лет. «Вперед без страха и сомнений!» – напутствовали меня на боевую вахту корреспондента «с “лейкой” и блокнотом» в отделе авиации. Станислав Ковалев предложил сразу же, без долгих раздумий «водрузить знамя посткоровца» «Красной звезды» на КП командующе-го». Редактор отдела полковник Шуников Федор Афанасьевич, бывший комсомольский работник, сибиряк с лохматыми черными бровями, вдохнул большой грудной клеткой воздух и согласно произнес: «Да. От солидного автора. Солидную статью». Дельный совет в дни знаком-ства с редакцией подсказал мне начальник нашей корсети Вячеслав Викторович Гриневский. Понятно, что четыре маленьких звездочки на погонах в общении с тем же «солидным» автором, у которого одна звезда, да в пол-лаптя, могут мешать разговору на равных. Известно ведь не только в армии неписанное правило: «Я начальник – ты ду-рак. Ты начальник – я дурак». А армейская субординация – это когда ефрейтор с одной лычкой на погоне может поставить по стойке «смир-но» рядового бойца. А уж генерал или, не дай Бог, маршал – сколько смертных он выше в этом подлунном мире! Позже я имел удовольствие видеть, как генерал-лейтенант (это по две звезды на каждое плечо) кобенился перед генерал-майором – у того по одной звезде. И как же такой человек мучается, при жизни стоя на пьедестальчике, порой, вовсе незаслуженно купаясь в лучах славы. Известный журналист Анатолий Аграновский на сборах посткоров делился своим опытом работы и общения с «шишками»: захожу, говорит, к такому, вижу его портрет на стене или бюст из мрамора и даю как бы оценку произве-дения: «Венценосный» убаюкивает свою спесь и с пьедестальчика-то опускается на грешную землю… Так вот и Вячеслав Викторович под-сказал, как быть с такой чванливой публикой – от нее ведь придется готовить для газеты статьи, отзывы, что-то уточнять, выяснять. «Ты, Стасик, представься по-военному, по уставу, а сели за стол – вы равны!».
Ну и представьте картину. Тот самый «солидный» автор, вы-ступлением которого в «Красной звезде» я должен был водрузить знамя посткора, не любил, когда к нему обращались по его воинскому званию: «Товарищ генерал». Он говорил, что в его хозяйстве полно генералов, а командующий он один! Его порученец советовал так и обращаться: «Товарищ командующий…» И вот является к тому ко-мандующему капитан, его бывший подчиненный летун, каких у него было больше тыщи, представляется, спокойно усаживается за стол
и говорит: «Иван Иванович, вам предложено выступить с проблем-ной статьей в «Красной звезде». Есть интересная тема. Хотелось бы
С «ЛЕЙКОЙ» И БЛОКНОТОМ
11

получить от вас какие-то наброски мыслей по этому поводу». У Иван Иваныча любимым, не книжным героем был маршал Жуков. Такой же невысокий, коренастый, правда, не на кривых ногах – все-таки не кавалерист, он во всем подражал известному военачальнику. Говорил отрывисто, резким голосом. Не голос, а рык! Так вот помню, как с первых же слов моего обращения лицо генерала начало багроветь, он тяжело задышал, пауза молчания в беседе, к которой я готовил-ся, явно затягивалась. И, наконец, я услышал фразу – ответ на мое предложение: «Вам хо-чет-ся. А мне не-мо-жет-ся!..» Иван Иванович любил говорить афоризмами, которыми в наше время был богат авиа-ционный язык. Так что первая наша творческая встреча закончилась, похоже, по ходу придуманным им изречением: «Кто пишет, тот не летает. А кто летает – тот не пишет!». В принципе генерал Пстыго был прав. Я скоро в этом убедился, поскольку в месячном плане посткора обязательно требовались два авторских материала. Свои – не в счет. За них, если не подготовишь те авторские, даже и гонорар не платили. Скажу откровенно, куда как интересней и проще было работать для той же газеты с моряками – такими же «шишками», только из морско-го офицерского корпуса. Это уже по опыту боевой вахты в аппарате «Красной звезды». Однако и с Иван Иванычем за годы моей службы посткором мы все-таки нашли общий язык. Я ему не подчинялся – мое начальство было далеко, в Москве. Так что лихой командующий мог со мной делиться многим, что окружающей его братве лучше было не передавать. То есть мы сотрудничали и находились в связи, как масоны – под лозунгом «Свобода, равенство и братство!»
Забегая вперед, припомню, как эта творческая связь с моим пер-вым автором продолжилась. Значит, я уже был редактором военно-ме-муарной литературы «Военного издательства», и вот однажды меня приглашают к телефону: «Тебе какой-то маршал звонит». Беру трубку
и узнаю знакомый голос, правда, не на басах. Это на связь выходил мой бывший командующий, уже в самом высоком воинском звании и вы-сказывал мысль, что созрел для книги воспоминаний. Я не сдержался напомнить его афоризм при первой нашей встрече: «Иван Иванович, а кто летает, тот не пишет…». Оба посмеялись и договорились о встрече. Книга воспоминаний Героя Советского Союза маршала авиации Ивана Пстыго, конечно, родилась, вышла в свет и заняла достойное место в ряду военных мемуаров. Среди них сохранился и автограф мне от маршала Пстыго с теплой надписью: «…в знак старой и верной дружбы на добрую память».
12 С «ЛЕЙКОЙ» И БЛОКНОТОМ

Минут годы. Великолепная школа «Красной звезды» так или иначе выразится в строках многих книг – своих ли, авторских. И рядом с военными мемуарами маршала авиации моего первого автора Ивана Пстыго выстроятся рядком на книжной полке воспоминания и других военачальников – с признательностью, о чем они и не догадывались, прежде всего, моей родной «Красной звездочке».
«Станиславу Грибанову в знак глубокого уважения и с наи-лучшими пожеланиями. Дважды Герой Советского Союза маршал авиации Скоморохов»
«Полковнику Грибанову, летчику, журналисту, редактору с поже-ланием больших успехов. Дважды Герой Советского Союза маршал авиации Савицкий».
Но пока я прохожу школу «Красной звезды» – требовательную, доброжелательную. Кроме меня в Группе советских войск в Германии были еще два посткора – Анатолий Синев и Алексей Кулаков. Они, уже опытные журналисты, в совместных командировках, учениях брали на себя и организационную часть, а я присматривался, как они работают. Запомнились мне учения братских армий под названием «Октябрьский штурм». Проходили они в Тюрингии, ближе к границе будущих «партнеров» и корешей Мишки «меченного», Чубайса, Гайдара
и прочей… (здесь слишком нецензурные слова). Участвовали в батали-ях – сейчас даже не верится – и немцы, и поляки, и чехи, понятно, и наши войска. Мы с Кулаковым гоняли на «газике» по разным частям и легко разговаривали с участниками тех учений. Я был за переводчика с немецкого, братьев-славян понимали без перевода с первых слов. Оставалась одна проблема – узнать замысел, можно сказать, девиз, под которым мы наводили шухер на всех этих «натовцев» и америкосов. Сказать это мог только главный на учениях начальник, наш министр обороны. Гречко. Без определения учений материал для газеты был бы пустой, так что с маршалом Советского Союза разговор предстоял всенепременно. Решили так. Я сажусь писать, а Кулаков – к министру. Алексей Николаевич рассказывал потом, как куча генералов, прячась за угол дома, во дворе которого, похоже, в глубоких раздумьях, проха-живался в одиночестве Антон Андреевич Гречко, нервно засмеялась о намерении подполковника из газеты. Но мой коллега решительно вышел на тропинку, ведущую к человеку в сиянии ярких звезд на пле-чах, груди, даже на пуговицах его пиджака. Гречко был здоровый (чуть не сказал – хохол) мужик, у которого один нос был как стабилизатор моего самолета, а Кулаков – небольшого роста, но широкий, почти
С «ЛЕЙКОЙ» И БЛОКНОТОМ
13

квадратный, при этом голос у Алексея Николаевича был тихий, к нему надо было прислушиваться. И вот он твердым шагом, уверенно, как танк, шел на Гречко. Тот, явно от такой неожиданности, замер, оста-новился в конце тропинки. А дальше было так. Подполковник что-то говорил, маршал вслушивался, старался понять, что надо ему; в конце концов, сообразил, произнес несколько слов по поводу совместного учения братских армий и отпустил с Богом корреспондента можно сказать своей газеты. К слову, утро министр обороны Гречко начинал с чтения именно «Красной звезды».
Каждый месяц редакторы газеты требовали от посткоров из воен-ных округов включать в план работы материалы для своих отделов.
Я с готовностью брался за разные темы, и многие выступления в «Красной звезде» шли под фанфары – отмечались редколлегией как лучшие в номере. Помню, по мнению отдела физподготовки и спорта моя «Золушка» вызвала восторженные отзывы у читателей: «Наконец-то наш коллега-физрук рассказал всю правду». По отделу партийной жизни корреспонденция «Кукушка хвалит петуха» наделала шухеру в политуправлении и тылу армии. Отдел культуры был доволен статьей «Ракета, кленовый лист и Джоконда». Только вот от редактора авиаци-онного отдела летели в мой адрес письма и телеграммы тяжелые, как ядра: Лушников требовал, как и в первые дни знакомства, «солидные статьи от солидных авторов».
Ко дню моего рождения главный редактор газеты генерал-лей-тенант Николай Иванович Макеев прислал такую вот телеграмму: «Молодому краснозвездовцу, широко расправляющему творческие крылья, в день 30-летия коллектив редакции шлет сердечные по-здравления и пожелания высокого неба в журналистике, богатырского здоровья и личного счастья. Н. Макеев». Читаю вот сейчас письма и телеграммы своих друзей-краснозвездовцев, наставников, товарищей по оружию – их уже нет в живых, а слышу голоса, ощущаю тепло их добрых рук и напутствия где-то уже на колесах, в купе поезда «Москва-Вюнсдорф». Сохранилось послание от начальника корсети Гриневского: «Дорогой Стасик! Читали твой очерк многие: я и Фирсов, комсомольское трио, Лушников и его крылатая братия. Не сговариваясь, все пришли к одному выводу. Литературно очерк выписан хорошо, а человек, моло-дой летчик, пребывающий всеми потрохами в хмельной молодости, раскрыт недостаточно (банально? но что поделаешь!). За год, конечно, чудесных превращений не наберешь, но и те, что происходили, не рас-крыты… В очерке и сейчас много хорошего. Язык. Афоризмы. Весенняя
14 С «ЛЕЙКОЙ» И БЛОКНОТОМ

кипень, задор молодости. Мы все с завидкой читали и радовались, что под «Звездочкой» вызревает такой талант. Это говорится без всяких дураков. Но содержание очерка надо улучшить. Никто простой правкой этого не сделает. Тут нужна вдохновенная рука. Жму 5 и желаю удачи».







