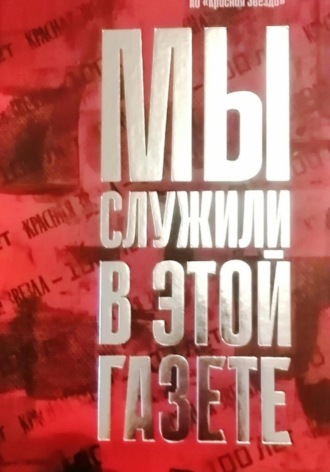
Полная версия
Мы служили в этой газете
Кроме Возовикова с Жуковым в «Красной звезде» было немало профессиональных писателей, драматургов и поэтов, членов союза: Аркадий Пинчук, Юрий Беличенко, Александр Беляев, Стас Грибанов… Но с Возовиковым нас сближало многое – и любовь к Алтаю, и инте-рес к истории России, и восхищение нашими танковыми войсками,
а главное – трепетное отношение к родному языку, к русскому слову. Так, в «Красной звезде» я обрел одного из самых душевных друзей в своей жизни.
Иногда к нам в отдел заходил скромный малозаметный человек, поэт из ведомственного журнала внутренних войск. Он с благогове-нием следил, как Володя Возовиков правил его стихи. Так взирают па-циенты на своих хирургов. Мы поглядывали на него немного свысока: у нас главная военная газета страны, а тут представитель какого-то МВДешного журнальчика. Лишь однажды перед Днем Победы он загля-нул к нам с геройской звездочкой на лацкане гражданского пиджака. Но и это не произвело на нас особого впечатления – Героев Советского Союза к нам захаживало немало. Возовиков-то что-то знал о нем, и даже приглашал его попить с нами чайку. Оба были земляками – алтай-цами. Но я-то лишь спустя годы и годы узнал, что к нам приходил один из самых выдающихся героев Великой Отечественной войны – сержант Михаил Борисов. В 19 лет он на Прохоровском поле на Курской дуге в одиночку (батарея была вся перебита) подбил семь никогда никем еще не виданных «тигров» и повредил восьмой. Подобных эпизодов за всю войну больше не было. Весть о метком и отважном артиллеристе дошла и до Берлина. Геббельс объявил удалого сержанта личным вра-гом фюрера. Эх, знать бы тогда, с кем мы чай водили (и не только чай), как бы я его обнял, как бы крепко пожал руку! А ведь он еще и поэтом оказался презамечательным!
Крепко пожать руку мне удалось другому герою – летчику Михаилу Девятаеву, совершившему сверхдерзкий полет из плена на немецком самолете Хе-111, да еще захватив с собой дюжину советских военно-пленных. Впоследствии я написал о нем книгу для молодогвардейской серии «Жизнь замечательных людей».
Много лет спустя, уже сняв погоны, я понял, что «Красная звез-да» даровала мне серию удивительных знакомств, бесед, общений. Я встречался с ними и по своему «профилю», и просто по газетным делам. Набросал имена и сам удивился: неужели все это было? Было!
СВЕТ ДАЛЕКОЙ «ЗВЕЗДЫ»
47

Народные и ненародные артисты – Михаил Жаров, Юрий Никулин, Владимир Высоцкий, Донатас Банионис, Муслим Магомаев, Анатолий Папанов, Михаил Ульянов, Елена Гоголева, Михаил Ножкин, Аремен Джигарханян, Юрий Визбор, Эдита Пьеха, Леонид Леонов, Михаил Задорнов, Лариса Голубкина, Алина Покровская, Людмила Касаткина, Алексей Салтыков, Николай Рыбников, Иван Суржиков… Это просто на первую вскидку. Теперь понимаешь – великие имена! И если бы я собирал автографы, то какой бы альбом собрался! Но автографы я не собирал, и своей театрально-оркестровой службой в отделе искусств и литературы – тяготился. Хотелось на волю, в поля, пампасы, Гималаи… Или хотя бы на Памир, или куда-нибудь погорячее…
Туда, где действуют наши войска – в горячих точках или учениях, маневрах, походах. Хотелось быть реальным военным корреспонден-том, а не театральным хроникером. Как я благодарен шефу – Владимиру Николаевичу Жукову, он меня понимал и никогда не спрашивал, от-правляя в очередную командировку с темой не по профилю: «А затем тебе это нужно?». Понимал: нужно. И главный редактор «Красной звезды» генерал-лейтенант Николай Иванович Макеев без лишних слов подписывал мои командировки, весьма далекие от театрального мира: то на учения Кантемировской танковой дивизии, то на Северный флот – к подводникам, то к летчикам дальней морской разведки… А
в конце концов, он понял, что военные оркестры это не мое амплуа, и перевел в отдел специальных корреспондентов. Тут уже началась настоящая жизнь!
Невероятно обширное поле открывалось передо мной. Я, благодаря статусу военного корреспондента, мог поехать в любую точку нашего немеренного Союза, в любой отдаленный гарнизон – от Курильских островов до предместий Берлина. Летать с летчиками за горизонты и ходить с моряками на край света. Скакать на конях и мчаться на танках.
Оценил это не сразу, потом, когда лишился такой великолепной свободы выбора. Мои сокурсники могли тогда только мечтать о поезд-ках за границу. А меня направили сразу в капстрану – Египет. И дело, конечно, не в загранпоездках. А в том доверии, которое оказывало руководство газеты двадцатипятилетнему парню и, конечно же, в ответственности этого парня за каждый свой шаг, особенно за рубежом, за каждое слово, набранное в газете.
Мне были открыты все виды Вооруженных Сил и все рода войск: армия, Военно-воздушные силы и флот. Сегодня в марше с танкистами,
48 СВЕТ ДАЛЕКОЙ «ЗВЕЗДЫ»

завтра в полете с дальней воздушной разведкой, послезавтра в походе на подводной лодке, а позавчера в конном переходе с кавалеристами 11-го отдельного кавалерийского полка – был такой в 70-е годы – един-ственный на всю советскую армию. А еще был выбор (и я его делал): к ракетчикам космодрома Байконур, к пограничникам на дальневосточ-ной советско-китайской границе, к псковским десантникам…

Не так много было в тогдашней армии пишущих старших лейтенан-тов. Я был одним из них. Мои очерки, пишу это без похвальбы, а по фак-ту, публиковались в «Красной звезде» и «Правде», журналах «Молодая гвардия» и «Юность», «Советский воин» и «Наш современник». И под каждым подпись на радость отцу: «Старший лейтенант Н. Черкашин».
Так возник круг моих новых друзей, знакомых, героев очерков. Среди них командир танковой роты 12-го гвардейского Шепетовского танкового полка гвардии капитан Александр Наумов, командир подво-дной лодки Б-400 капитан 2 ранга Александр Яременко, командующий военно-транспортной авиацией генерал-полковник Георгий Пакилев, командир заставы на дальневосточном пограничье капитан Лебедев,
СВЕТ ДАЛЕКОЙ «ЗВЕЗДЫ»
49

и многие-многие другие… С некоторыми из них дружу, переписываюсь, встречаюсь и поныне. Но большая часть этого замечательного круга значительно поредела… Даже коллег-краснозвездовцев осталось напе-речет: Михаил Захарчук, Стас Грибанов, Александр Бондаренко…
Но до того, как мне удалось вырваться из-за стола литправщика и стать спецкором «Красной звезды», был Алтай…
Почему Алтай? Именно туда отправился на уборку хлеба мой ротный командир по Путиловским лагерям капитан Зернов. Для меня это был образец советского, русского офицера, и я хотел написать очерк о нем, так сказать, портрет в реальном интерьере, в новом ракурсе.
К тому же на Алтае (в Барнауле) начинал свою воинскую службу отец, я же свою военную службу там продолжил, уехав в алтайские степи на уборку хлеба вместе с военными автомобилистами МВО. Благо мне выпадал очередной отпуск, и я выписал отпускной билет в Барнаул.
– Почему туда? – удивился мой шеф, редактор отдела литературы и искусства, инженер-полковник Владимир Николаевич Жуков. – Возьми путевку в военный санаторий в Сухуми!
– Хочу посмотреть, как армия убирает хлеб.
Ответ был в весьма политкорректном духе: «Красная звезда» да
и многие другие газеты писали об участии армии в важном государ-ственном деле. Тема была востребованной. Но мне хотелось все увидеть своими глазами. И увидел. Увидел: пот, кровь, гибель водителей, ав-ральные темпы, война за хлеб безо всяких кавычек… Увидел – народ в гимнастерках минувшей войны. Хлеб, политый кровью. Но как об этом напишешь? Все – за рамками дозволенного… Но тут появились цыгане… Цыганская бригада скотогонов перегоняла овец с монголь-ской границы на мясокомбинаты Бийска и Рубцовска по поставкам Скотоимпорта. И я решил написать об этой никому не ведомой дея-тельности цыган.
То была настоящая журналистская удача – шутка ли, пристроиться к цыганскому табору и пройти с ним почти две недели по горным тропам Алтая. Ну, табор, не табор, а артель цыганских пастухов-пере-гонщиков.
Так я проделал многосуточный путь по знаменитому Чуйскому тракту от Бийска до Кош-Агача, поселка, расположенного у самой мон-гольской границы. А потом была большая статья в «Комсомольской правде» – «Табор без гитары», затем пьеса по заказу цыганского театра «Ромэн», спектакль, премьера, успех…
50 СВЕТ ДАЛЕКОЙ «ЗВЕЗДЫ»

Алтай стал моим Тулоном, местом журналистского взлета. И через несколько лет я приехал в Барнаул еще раз – для души. Но это уже другая история. А продолжением алтайской эпопеи с ее творческим триумфом стала командировка от отдела боевой подготовки ВМФ, который возглав-лял капитан 1 ранга Иван Митрофанович Панов. Летом 1974 года я попал на корабли нашей Средиземноморской (Пятой оперативной) эскадры.
В Александрии я увидел, как в порт входила наша подводная лодка после многомесячной боевой службы в Средиземном море. Черная, она была ободрана штормами до красного сурика, так что напоминала недоваренного в кипятке рака. Подводная лодка ошвартовалась у стенки морзавода, и на причал вышли офицеры-подводники. В основном это были мои ровесники – лейтенанты. Бледные, как картошка из погреба, они были полны жизни, радовались раздольному египетскому солнцу, морскому воздуху, свободе движений… Они были веселы и остроумно подтрунивали друг над другом. И мне захотелось быть среди них.
Так получилось, что в Севастополь мы возвращались вместе на одном госпитальном судне: они шли на межпоходовый отдых, а я возвращался в «Красную звезду». Командир подводной лодки капитан 2 ранга Евгений Сулай оказался моим земляком. Мы быстро нашли общий язык.
– Переводись к нам, – предложил он. – У меня замполит подхватил туберкулез, комиссуется по болезни, освобождает вакансию. Адрес у нас простой – город Полярный, Четвертая эскадра подводных лодок.
Я так и не понял, в шутку он это сказал или всерьез. Но я его предложение воспринял на полном серьезе. Однако провернуть такой служебный перевод было более чем непросто, даже почти невозмож-но, учитывая, что к плавсоставу меня с моей благоприобретенной в школьные годы близорукостью не подпустит ни одна медкомиссия. Тем не менее я взялся за дело поэтапно. Сначала надо было заручиться согласием начальника политуправления ВМФ адмирала Гришанова на занятие вакантной должности на подводной лодке. Пользуясь правом драматурга, то есть автора пьесы «Табор без гитары», я пригласил его в цыганский театр «Ромэн». Василий Максимович прибыл с супругой. После спектакля в кабинете директора театра для уважаемого гостя был накрыт стол. И там, в весьма неформальной обстановке, я по-просил у Гришанова разрешение на перевод из «Красной звезды» на Северный флот.
– Пьеса о цыганах, – сказал я, – была счастливой творческой случайностью. Я бы с большим энтузиазмом написал бы пьесу о
СВЕТ ДАЛЕКОЙ «ЗВЕЗДЫ»
51

подводниках, но для этого (я повторил любимую фразу адмирала!) «надо пройти через верхний рубочный люк.
Василий Максимович удовлетворенно кивнул головой. Ему, бывшему фронтовику, знающему флотскую жизнь не понаслышке, понравилась идея пьесы о подводниках.
– Придешь завтра в Главный штаб – определим.
И я пришел, и кадровик подо-брал мне подводную лодку, которая готовилась на 12-месячную боевую службу в Средиземное море. Теперь оставался второй этап этой «герои-ческой авантюры» – отпроситься
у главного редактора «Красной звезды» отлучиться из редакции на пару лет, а то и больше. Я очень бо-ялся, что он скажет: «Еще чего?! На пару лет… А кто работать будет? У нас и так сотрудников не хватает…» Наверное, так бы сказал любой другой редактор. Но генерал-лей-

тенант Николай Иванович Макеев был человеком особенным, уди-вительным, человеком широкой души и редкой для военной прессы
редакторской независимости. Он отпустил. И благословил на успешную работу. И выразил надежду, что там, вдалеке от столиц, не опозорю звание «краснозвездовца».
Теперь оставался третий этап – медицинская комиссия. Тут сразу все рухнуло. «Нет! – Сказал главный офтальмолог Советской Армии генерал-майор медицинской службы. – На должностное преступле-ние я не пойду». И не пошел. И я ушел от него почти в слезах, хотя лейтенантам, тем более старшим лейтенантам, плакать не положено. Да я и не плакал. Стал соображать, что делать дальше. Отправился к начальнику нашей военной поликлиники. Ее возглавлял очень стро-гий полковник – педант, законник. Шансов получить у него допуск
к подплаву было не более пяти из ста. А может и еще меньше. Я не знал, что в свои лейтенантские годы этот строгий эскулап служил на Камчатке – врачом на подводной лодке. Моя история его тронула. И он нашел выход из тупика.
52 СВЕТ ДАЛЕКОЙ «ЗВЕЗДЫ»

На все три этапа ушли три недели. Потом подсчитал, что для того, чтобы состоялось мое невероятное назначение, должны были цепоч-кой совпасть – одно за другим – семь счастливых обстоятельств, в том числе и былая служба полковника-медика на подводной лодке.
* * *
В один прекрасный июльский день 1975 года я отправился поездом «Арктика» в Мурманск, а оттуда – рейдовым катером в Полярный, на самую знаменитую в годы холодной войны – Четвертую эскадру дизельных подводных лодок. Служба на ней отличалась особой напряженностью, поскольку раз в год она должна была направлять боеготовую бригаду подводных лодок в Средиземное море. Жизнь на эскадре кипела суматошная, и никому не было дела, откуда прибыл новый зам на подводную лодку Б-409. Главное, закрыта кадровая брешь.
А уж как он будет выкручиваться этот искатель приключений – это его личное дело.
«Комиссарскому» уму-разуму учили меня не политотдельцы, а бывалые командиры, старые «морские волчары». Первый урок запом-нился на всю жизнь.
– Ты «шило» пьешь? – спросил меня как-то командир подводной лодки Б-432 капитан 2 ранга Медведев.
– Пью. – Уверенно ответил я, хотя до той поры (да и поныне тоже) использовал спирт только наружно. Но не мог же я так пасть в глазах такого командира, как Медведев? Тварь я дрожащая или право имею? Вот и покривил душой.
– Тогда пошли с нами!
И мы пошли. Нас было трое (русское каноническое число!). Третий был тоже «обросший ракушками» командир подводной лодки и тоже кап-два – Варнавва. Я прекрасно понимал, что мне, капитан-лейтенан-ту, оказана великая честь пить спирт в такой компании. Мы пришли на холостяцкую квартирку капитана 2 ранга Медведева, и он разлил по граненым стаканам чистый спирт.
– Может разбавить? – милосердно спросил Медведев, подозревая меня в преувеличении своих способностей.
– Нет, – гордо отказался я.
– Ну, смотри…
Перед тем как жахнуть (Варавва в это время резал селедку с луком) я получил первое наставление.
СВЕТ ДАЛЕКОЙ «ЗВЕЗДЫ»
53

– Понимаешь «зам» (будь я механиком, он назвал бы «мехом», доктором – «доком» – так уж было принято на эскадре, по именам называли лишь в самых дружеских отношениях), ты своего дела не чурайся. Оно особенное. Вот есть офицер оружия, минер, торпедер. Если он сплохует, то лодка вернется в базу и без торпед. Есть связист. Если спасуют его бойцы, корабль и без связи вернется в базу. Есть механик. Потеряет лодка ход, не дай бог, ее за ноздрю на буксире приволокут домой. А вот если зам хреновый, то лодка и в базу не вернется. То ли «броненосец Потемкин» на ней учудят, то ли кто-нибудь из офице-ров-мичманов-матросов сбрендит и весь корабль утопит. Так что у тебя самое главное заведование – люди, личный состав. А это посложнее чем дизеля или гирокомпасы. Я верно говорю, Семеныч?
– Верно, – откликнулся Семеныч. – Как говаривал Нахимов, «матрос – самый главный двигатель корабля». За наш любимый личный состав.
Мы встали, подняли стаканы на уровень плеча.
– На флаг и гюйс, на стеньговые флаги и флаги расцвечивания, на государственный флаг Советского Союза – смиррн-ааа! За тех, кто
в море!
На высокой патриотической волне я большими глотками осушил стакан, охнул от жгучести напитка, но удержал выступившие слезы. Кусок сельди показался мне слаще мирра и вина. О, блаженство, о спасение от ожога слизистой гортани!
– Молодец! – одобрили меня «волчары».
С этой высокой оценкой я через пять минут рухнул на спину и отрубился или вырубился на пару часов. Но урок запомнил. «Никаких «Потемкиных» – ни-ни! Не доводить экипаж до бунта. Хотя партий-но-политическая пропаганда всячески навязывала на флоте образ отважных мучеников-моряков, которые восстали против царского деспотизма. До сих пор не могу взять в толк этот парадокс: как можно было воспитывать «любимый личный состав» на антиофицерских настроениях, выступлениях, убийстве командира, на примерах того же кино «Броненосца» и других революционных шедеврах? Но это отдель-ная тема. А тогда сквозь плотную завесу алкогольного удара, в памяти остались две поучительные истории (лом, который мичман-ревнивец бросил в аккумуляторную яму, чтобы не уходить надолго в моря и провал на предельную глубину подводной лодки капитана 2 ранга Вараввы).
54 СВЕТ ДАЛЕКОЙ «ЗВЕЗДЫ»
* * *


Каждый корабельный зам – надводник он или подводник, по-ставлен перед непреложным вы-бором: ты с кем – с экипажем или
с политорганом? Я выбрал эки-паж. И мне было проще сделать выбор, чем многим моим колле-гам, поскольку я не стремился делать карьеру политработника, не рвался на берег в политотдел
и выше, не мечтал о должности начпо или ЧВСа. Выбрав экипаж, я на корню пресекал свое дальнейшее продвижение по служебной линии, мне не светила Военно-политическая академия в Москве, и много чего другого не светило. Но для меня самым главным было участие в боевой службе, то есть в многомесячном походе в Средиземное море. И больше всего на свете боялся, что по тем или иным причинам меня могут отстранить, не пустить, списать на берег.
Для моих береговых начальников я был плохим замом. Во-первых, я не сообщал («не стучал» в политотдел эскадры) ни
на командира, ни на старпома, ни на других офицеров, не поставлял в политотдел столь нужный им для своей работы «компромат». Не сообщал, поскольку прекрасно понимал, что политотдельские чины ни в чем нам, корабельным «замам» помочь не смогут, не вникнут, не разберутся. Чужой экипаж – потемки, и так, как знаю я своих людей, никакой начорг, пропагандист или лектор-инспектор не знает. А зная своих людей, я смогу (вкупе с командиром и старпомом) наставить их на «путь истинный», помочь им вернуться в прямоточное служебное русло.
Во-вторых, я не создал, выражаясь языком полиотдельцев, «вну-трипартийную систему внутренней информации», то есть не «завер-бовал» информаторов, грубо говоря, стукачей, доносчиков, которые бы сообщали мне о всех прегрешениях своих сотоварищей.
– Ты, что святой?! – вопрошал замкомбрига по политчасти. – Как без этого можно работать? Вслепую? Где когда-что произойдет – поздно будет разбираться! Надо на опережение ситуации работать! – настав-лял он меня. – Так было и будет во все времена!
СВЕТ ДАЛЕКОЙ «ЗВЕЗДЫ»
55

Может, он и прав – работать надо с предвидением. Но ведь матросы сами предупреждали меня о грядущих «грубпроступках». Не обо всех, конечно, а тех, которые могли нанести реальный вред экипажу, добро-му имени корабля. У меня не было стукачей. Если назревало что-то серьезное, матросы сами предупреждали.
После бунта на «Сторожевом», поднятым заместителем командира корабля по политчасти капитаном 3 ранга Саблиным на БФ, по всем флотам прошла тотальная проверка политработников.
Меня подслушивали. В коридоре казармы, за дверями кубрика, где я проводил занятия со старшинами, нередко прогуливался пред-ставитель политотдела, который внимательно прислушивался к моим речениям. Матросы не раз сообщали мне, что политотдельские чины расспрашивают их, о чем я им говорил на занятиях, листают конспек-ты. А я много на занятиях не говорил. Сначала «давал под запись» то, что у них должно было остаться в тетрадях, а потом…
Второй приснопамятный урок я получил от начальника штаба на-шей эскадры контр-адмирала Кузьмина. Однажды он вышел на нашей лодке старшим на борту. И вдруг спросил меня:
– А все ли матросы получают письма из дома? А есть ли такие, кому вообще не пишут?
К стыду своему, я не смог ответить на эти вопросы. Я полагал, что почтовая переписка – дело глубоко личное, и не надо в нее вторгаться.
И оказался глубоко неправ. Кузьмин привел мне немало примеров, когда матросы, лишенные поддержки из дома, теплых материнских ли, отцовских, братских писем, замыкались, уходили в себя, «тихо-рились», а потом в этих «тихих омутах» заводилось такое, что потом только диву давались: да как же он до такого додумался? Да как же он на такое пошел?
* * *
Начатки технического образования (чертежник-конструктор) помогало изучать лодку. Самая сложная из всех корабельных систем – масляная система. Однажды в кают-компании изучал схему этой за-мысловатой системы. Заглянул механик, решил подшутить?
– Ну, что, Николай Андреевич, гранит марксизма грызем?
Я молча показал ему схему 12-плунжерного лубрикатора, которую вычертил на листке бумаги. У механика глаза округ-лились. Право слово, не каждый замполит знал, что такое
56 СВЕТ ДАЛЕКОЙ «ЗВЕЗДЫ»

«полутетрафилярная обмотка». А я знал. Я правила эксплуатации аккумуляторной батареи читал, как роман.
Больше всего меня убивала обширная и въедливая документация, которая самым наглым образом пыталась отрывать меня (и не только меня) от живой работы с людьми.
Одни «папки агитаторов» чего стоили. Полагалось, чтобы в каждом отсеке был свой агитатор, а у него своя папка, набитая всевозможным агитационным материалом – вырезками из газет, листовками и всевоз-можной макулатурой. И всякий раз после проверок мне записывали в минус «отсутствие в отсеках папок агитаторов». Но я их так и не завел. Это в каком таком досужем мозгу возникла идея времен гражданской войны агитировать в отсеках «за советскую власть»? Но это мертвое дело упорно насаждалось, пока не отмерло само по себе.
Разумеется, я никогда не забывал, что родом из «Красной звезды». Но я не поддерживал с редакцией почтовую связь, поскольку недруги мои пустили слух, что я был «скрытым военным корреспондентом», который тайно «брал все на карандаш» (как стращали мною началь-ника политотдела) и готовил разгромные статьи о нравах и порядках
в эскадре. А кроме того, вопреки запретам «особых органов» иметь на борту личный фотоаппарат, я еще имел и личную кинокамеру «Красногорск-2», на которую отснял многие эпизоды нашей боевой службы. Сегодня, как выяснилось, это были редчайшие кинокадры, которые стали историческими кинодокументами.
Кроме «скрытого военкора» были у меня и другие роли, которых я не чурался, и старался «играть» честно, по соответствующим правилам.
Роль «Кадровик».
Кадровик, а как же иначе? Я должен был знать все учетные данные каждого члена экипажа, характер, человека, его слабости и сильные стороны, увлечения, привязанности, зависимости, «дурные привыч-ки»… Не раз, не два, не пять и не десять обсуждали мы с командиром каждую личность из нашего экипажа в семьдесят пять душ, решая, кто пойдет на боевую службу, а от кого необходимо избавиться под любым благовидным предлогом.
Роль «Хранитель военных тайн».
Я внештатный СПС – (специалист правительственной связи), проще говоря, шифровальщик. Только командир, штатный шиф-ровальщик («шаман») и я допущены к святая святых – шкатулке с наборно-разборными книгами, которая хранится в моей каюте. Она же, каюта, еще и лодочный шифрпост. Вход в каюту строго ограничен.







