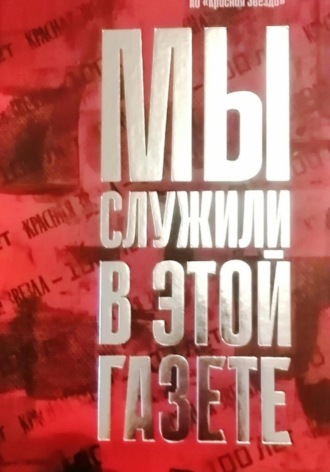
Полная версия
Мы служили в этой газете
а предательство политика, который хотел усидеть на двух стульях и начал процесс разваливания великой державы…
В Грузии я отыскал Мелитона Кантарию, того самого, что вместе с Михаилом Егоровым водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. В журналистской среде ходили упорные слухи о том, что не они были первыми. И я хотел задать этот вопрос самому знаменщику. Он жил и работал в Сухуми. На местном рынке у него был свой мясной магазин. Там мы и встретились. Он пригласил меня в загородный дом с мандари-новым садом. Сидели за столом на свежем воздухе, угощались чачей и беседовали. На мой прямой вопрос он ответил не сразу. Какое-то время молчал, задумавшись. Потом сказал:
– В каждом батальоне были знаменщики. Двенадцать групп пошли к Рейхстагу. Кто был первым, в бою и в дыму не разберешь. Командирам со стороны виднее.
– Кого-нибудь из других знаменосцев помните?
– Парнишку Гришу Булатова помню…
Молва утверждала, что именно Булатов первым водрузил красное знамя над Рейхстагом. Бойцы из его группы были награждены ордена-ми Красной Звезды, а Золотых Звезд удостоились Егоров и Кантария. Обидно, конечно. Впрочем, не столь уж и важно, кто был первым. Важнее сохранить память обо всех знаменосцах, что и сделано в музее на Поклонной горе…
В Закавказье я работал два с половиной года. Сдружился с редакто-ром окружной газеты Сашей Кирюхиным. Ему нужен был корреспон-дент в комсомольский отдел. Я рассказал ему про Светикова… Через полгода Светиков стал работать у Кирюхина. Мы встретились. Он рассказал, что женился на львовянке Свете, а в Тбилиси живут пока в общаге. И добавил, что теперь будет писать в «Звездочку».
К этому времени возглавлявший партийный отдел редакции Борис Пендюр ушел на повышение в Главпур. Впоследствии он стал начальником Воениздата. Редактором отдела был назначен его зам – полковник Борис Похоленчук. Мне предложили должность его
36 ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ПРИЗМУ СОБЫТИЙ. О ЧЕМ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ПИСАТЬ?

заместителя. Партийная тематика мне не нравилась. Но это была един-ственная возможность получить звание полковника. Я рекомендовал на место посткора в Закавказье Гришу Артеменко из окружной газеты. И отправился в Москву.
Жизнь сотрудников аппарата редакции регламентирует распоря-док дня: летучки, правка материалов, дежурства по номеру газеты и по редакции. Вольготно себя чувствовали лишь специальные корре-спонденты. Отдел спецкоров возглавлял полковник Хорев, с подачи которого я когда-то стал краснозвездовцем. Спецкором стал и полков-ник Филатов, с которым мы вместе стажировались. Это была элита газеты. Им поручали самые сложные и щекотливые расследования по следам писем. Писали спецкоры дома и сдавали готовые материалы в набор. Перебраться в спецкоры стало моей голубой мечтой. Но прихо-дилось править партийные статьи и писать скучные передовицы. В нашем отделе работали четверо. Самый пожилой – фронтовик Михаил Петрушин, минер, прошедший со своей служебной собакой на после-военном параде Победы. Самый молодой – Гена Барнев. Еще редактор
и зам. А штатное расписание предполагало шесть сотрудников. Я предложил вызвать на стажировку из Забайкалья Валерия Рязанцева
и из Закавказья Виктора Светикова.
Стажировку они прошли успешно и стали работать в партийном отделе…
С той поры минуло много лет. Что-то забылось. Но яркие лично-сти из памяти не стираются. Такие, например, как редактор отдела науки и космонавтики – Миша Ребров, интеллектуал и журналист
№ 1 в космической теме. Мало кто знает, но его всего шаг отделял от полета в космос. В 1964 году главный конструктор Королев решил отправить журналиста в космос. Пригласил для испытаний десять журналистов, пишущих о космосе. И только Ребров успешно прошел медицинское обследование, получив заключение комиссии о годности к спецтренировкам. Барокамеры, центрифуги, множество других тре-нажеров, выживание в различных климатических условиях, поездки на космодромы и прыжки с парашютом – все это он выдержал и ос-воил. Королев сказал ему: «Готовься, Миша, встретить свое 35-летие в космосе». Увы, космос не состоялся. В начале 1966 года главный конструктор скончался. Проект с запуском журналиста тихо почил в кабинетах чиновников… В военно-морском отделе лидером был Сергей Быстров, жесткий в критике, находивший злободневные темы и писавший емко, профессионально и интересно… Отдел физкультуры
ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ПРИЗМУ СОБЫТИЙ. О ЧЕМ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ПИСАТЬ?
37

и спорта возглавлял Слава Гаврилин. На всех международных сорев-нованиях его назначали старшим группы журналистов. Замом у него был контактный и расторопный Олег Вихрев… В отделе вузов работал Виталий Безродный, судья всесоюзной категории по стрельбе. Его нередко вызывали на соревнования, на которых он судил и освещал их в газете. Отдел литературы возглавлял Володя Возовиков, непред-сказуемый в поступках и, на мой взгляд, самый талантливый из нас. Я познакомился с ним, когда он еще не работал в «Красной звезде». Мы оба были заочниками Литинститута. Во время сессий жили в общаге на улице Добролюбова. В институт ездили на троллейбусе, выходили на площади Пушкина и по подземному переходу шли на Тверской бульвар к институту. Володя подземный переход игнорировал, шагал напрямую через улицу. А потом поставили стеклянную будку с милиционером на возвышении. Возовиков пошел через улицу, и я за ним увязался. Милиционер в будке засвистел. Мы повернули к будке. Возовиков поднял голову:
– Чего свистишь? В лесу что ли?
Милиционер слегка ошалел от вопроса. Подоспевшие стражи порядка нас оштрафовали… В «Звезду» Возовиков пришел в 1969 году.
К этому времени вышла в свет его повесть «Сын отца своего». По ней был поставлен художественный фильм «Атака». После трех курсов он бросил институт. Сказал:
– Если писать не умеешь, институт не научит. А если умеешь – зачем институт?
В 1978 году он в звании подполковника уволился в запас. Снял на три месяца квартиру, изолировался от всех, чтобы закончить роман «Поле Куликово». О его съемной берлоге было известно лишь мне и Безродному. Иногда он звонил и просил привезти бутылку водки и сала. Писал он быстро и текст не правил. К 600-летию Куликовской битвы роман был опубликован в журнале «Молодая гвардия». А позже вышел отдельной книгой. Критики отметили появление новой звезды на литературном небосклоне. Читатели слали в издательство вос-торженные отзывы. Возовиков начал писать роман «Эхо Непрядвы», продолжение «Поля Куликова». Он был опубликован в 1988 году. Оба романа у меня на книжной полке с его дарственной надписью. За свою короткую жизнь он написал около 20 книг. Назову по памяти некоторые из них – «Время алых снегов», «В горах долго светает», «Сиреневые ивы», «Осенний жаворонок»…. Гонорары, свалившиеся на него, не давали ему спокойно жить. Он угощал в кабаках знакомых
38 ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ПРИЗМУ СОБЫТИЙ. О ЧЕМ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ПИСАТЬ?
и незнакомых. Он не спился, но здоровье подорвал. И умер в 1990 году в расцвете творческих сил…
Не могу не вспомнить журналиста Володю Житаренко, непоседу и заядлого курильщика. Последний раз мы общались с ним перед моим увольнением в запас. Накануне расстрела Дома правительства мы с ним пробрались внутрь здания. Хотели взять интервью у вице-прези-дента генерала Руцкого. Охрана не допустила нас к нему. Разговаривали с защитниками. Никто из них не верил, что будет штурм. Некоторые были в подпитии. Мы покинули Белый дом… Перед новым 1995 годом Житаренко отправился в Чечню. Я не был участником тех событий. Описываю со слов его жены Вали, которой рассказал о гибели мужа офицер-десантник. В новогоднюю ночь Володя вышел из штаба и на-правился в подразделение. Как всегда, закурил. На огонек прилетела пуля снайпера…
…Спустя полтора года главный редактор предложил мне воз-главить отдел культуры. В отделе работали юрист Игорь Вашкевич, Лена Агапова, будущий секретарь министра обороны Павла Грачева,
и Галина Конюшкова, внучка полярного исследователя. В Северном Ледовитом океане даже есть островок имени Конюшкова. У Галины был предпенсионный возраст, и она перешла в отдел писем с повышением в должности и в зарплате. А в отдел культуры пришел талантливый журналист Юра Мамчур, который учился в военно-политической академии на редакторском факультете. Каждая его публикация отме-чалась как лучшая в номере…
Через два года меня все же назначили спецкором. Я сразу запросил командировку в Афганистан, где наши войска вступили в официально необъявленную, но изнуряющую войну с моджахедами. О войне в Афганистане написано много статей и книг, потому напишу лишь о двух эпизодах, о которых писать в то время не позволяла цензура, но они врезались в память.
Дней десять я работал у десантников в дивизии генерал-майора Слюсаря. В один из дней колонна отправилась в пограничный Хайротон за оборудованием и провиантом. Я сидел в кабине КамАЗа рядом водителем-земляком из Башкирии. Звали его Ильяс. После вы-хода из тоннеля на перевале Саланг нашу колонну подстерегли духи, пропустили БМД и подбили грузовик. Мы с Ильясом выскочили из кабины, укрылись за скатами и палили из автоматов по невидимым целям за дувалом. Подошедшая с блокпоста бронегруппа развалила дувал, оставив от духов месиво. У нас было двое убитых и пятеро

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ПРИЗМУ СОБЫТИЙ. О ЧЕМ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ПИСАТЬ?
39

раненых. Ранило и Ильяса. Их отправили вертушками в Кундуз. Через пять суток я отыскал Ильяса в кундузском медсанбате. Хирург капитан Ремез сделал ему операцию, и Ильяс ждал отправки в ташкентский госпиталь. Медсестра приоткрыла одеяло. Его ноги и низ живота были стянуты бинтами. Ильяс приоткрыл щербатый рот.
– Дембель светит, – выговорил он еле слышно, – невеста ждет. Мать
к себе ее забрала. Слабо на свадьбу в Стерлитамак? Адрес у медсестры…
Потом капитан Ремез, медсестра и я снимали стресс спиртом в
ординаторской. Медсестра, кусая губы, пробормотала:
– Лучше бы Ильяса убили.
– Вы в своем уме? – оторопел я.
– Не будет у него ни невесты, ни жены. Все оторвало. Начисто…
Правду про Ильяса цензура бы не дала опубликовать. Да и сам не
хотел писать о трагедии своего земляка. Из командировки я привез девять очерков. Восемь были опубликованы в газете. Девятый так и остался в блокноте – человек в то время был для прессы закрыт.
Это был осетин полковник Цаголов, знаток Корана и обычаев горцев, свободно говоривший на языке и наречиях фарси и дари. О нем мне рассказал начальник разведки в штабе главного военного советника. Цаголов сумел уговорить перейти на сторону правитель-ства десять банд моджахедов. Разведчик предупредил, что писать об этом офицере нельзя, а про командира афганского батальона спецназа майора Маланга, бывшего главаря моджахедов, написать необходимо. Позвонил по телефону:
– Ким Македоныч, зайди.
Вошел человек с густой побитой сединой бородой, в полевой аф-ганской форме без погон. Мы представились друг другу и договорились съездить к Малангу утром. Чтобы не терять утром время, он пригласил меня переночевать у него. Жил он в советском микрорайоне в Кабуле. За ужином сразу предложил перейти на «ты», тем более что на столе появился графинчик с коньяком. Мы малость выпили, а разговор затянулся за полночь.
– Кто такой Маланг? – спросил я.
– Маланг был муллой и главарем самого крупного отряда моджа-хедов в районе.
– Как ты вышел на него?
– Две недели я жил у него в банде как глухонемой дервиш. Дервиши для горцев – табу. Бродил по лагерю слушал разговоры. Многие пережи-вали за семьи, которые остались в кишлаках.
40 ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ПРИЗМУ СОБЫТИЙ. О ЧЕМ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ПИСАТЬ?
– А сам Маланг?
– Главарь он жесткий, но противник жестокости. Однажды его разведчики принесли умирающего русского парня. Соседняя мелкая банда захватила двух наших молодых солдат, сняли с них рубашки и отпустили умирать. Знаешь, что такое «снять рубашку»?
– Нет.
– Надрезают кожу на животе и задирают ее до шеи… Маланг по-слал отряд уничтожить банду, а парня велел похоронить. После этого
я и решил открыться.
– Не боялся, что могут расстрелять?
– Нет. Надеялся, что, в крайнем случае, Маланг отпустит меня с миром.
– Как он отреагировал?
– У него глаза на лоб вылезли, когда я заговорил. Потом он долго сидел задумавшись. Сказал, чтобы я уходил и ждал от него вестей.
– Дождался?
– Примерно через неделю меня подкараулил у дома мальчишка и передал записку: «Приходи. Маланг». Результат завтра увидишь…
Утром мы поехали на бронетранспортере к Малангу. С нами был еще переводчик. Маланга нашли на полигоне. Он сидел на снарядном ящике и нюхал ромашку. Капралы обучали солдат стрельбе по мише-ням из пулемета Дегтярева. Ким представил меня и отбыл по своим делам. А я стал терзать Маланга на тему, как спецназовцы выслежи-вают караваны с оружием для душманов, идущие по горным тропам из Пакистана. Рейды они совершали не в военной форме, а рядились под душманов. Это вводило в заблуждение охрану караванов. Дважды в рейды с ними ходил Ким…
На обратном пути Ким сказал:
– Несколько дней меня не будет в Кабуле.
– В новую банду пойдешь?
– Нет. Не спрашивай – куда. Позвони перед отъездом…

Накануне вылета в Москву я позвонил ему. Мы снова встретились. Меня грызло любопытство, где же глухонемой дервиш пропадал
несколько дней. Я не выдержал и поинтересовался:
– Как закончилось твое путешествие по горам?
– Хреново. Я был у Ахмад Шаха Масуда. Передал ему предложение Кармаля Бабрака стать командующим армией в звании генерал-лей-тенанта. Авантюра!
– С какой стати Бабрак пригласил его на службу?
ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ПРИЗМУ СОБЫТИЙ. О ЧЕМ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ПИСАТЬ?
41

– Масуд не признает ставленника американцев Гульбеддина, идей-ного вождя и снабженца моджахедов. Видимо, наш посол и насоветовал президенту переманить его на свою сторону. По его способностям и ам-бициям он может претендовать на место самого Бабрака. У Масуда два университетских образования и военная академия в Англии. Владеет семью языками. Афганистану не помешал бы такой руководитель.
– Ты не докладывал об этом по своим каналам?
– Всем докладывал.
– И что?
– Сказали, чтобы не прыгал выше головы. Давай лучше выпьем!.. На прощанье Ким подарил мне японский диктофон, которым
я пользовался много лет. Мы обменялись московскими адресами и распрощались. Трое суток спустя, я сдал в набор афганскую статью – о Маланге…
Прошло пару лет. Однажды вечером в нашей квартире раздался звонок, и появился – вот уж кого не ждал! – Ким.
– Какими судьбами?
Ким показал мне листовку с его фотографиями – в чалме с посохом
и в афганской форме. Текст он перевел. Тот, кто доставит полковника Цаголова Кима в Пешавар, получит вознаграждение 500000 американ-ских долларов.
– Где же ты прокололся, Ким?
– От предательства никто не застрахован…
С того дня мы встречались нередко, и я многое узнал о его жизни. Родом он из Северной Осетии села Дигора. Окончил Ейское воен-но-морское авиационное училище. В годы службы заочно окончил исторический факультет пединститута. Позже преподавал в академии социально-экономические дисциплины. Защитил кандидатскую, а за-тем и докторскую диссертации о развивающихся странах. В Афганистан он попал уже будучи профессором. Подчинялся напрямую только главному военному советнику и начальнику разведки. Группировка Маланга была первой ласточкой глухонемого дервиша. Сумел угово-рить перейти на сторону правительства десять банд моджахедов. Так что на его счету одиннадцать бандформирований. И все без единого выстрела. Это произнести легко – одиннадцать банд! Каждый раз риск, дипломатия, знание психологии людей и умение договариваться…
В конце 80-х Ким Цаголов срочно вылетел в Южную Осетию. Участвовал в организации обороны от напавших грузинских военных группировок. По совокупности всех заслуг ему присвоили звание
42 ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ПРИЗМУ СОБЫТИЙ. О ЧЕМ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ПИСАТЬ?

генерал-майора. Он был назначен заместителем министра по делам национальностей и региональной политики. Часто выступал в прессе. Журналисты всегда спрашивали его об Афганистане. И он, не выбирая выражений, критиковал и афганское правительство, и советских кураторов Бабрака. Друзей ему это не прибавляло. В 1994 году на него было совершено покушение. Его автомобиль был обстрелян мотоци-клистом. И Цаголов, и водитель остались живы. Стрелявшего так и не нашли. В годы перестройки заслуженного генерала, кавалера более сорока отечественных и иностранных наград, уволили из армии за резкие высказывания в адрес нововведений в военном и иностранном ведомствах и об изменении политического курса страны…
Однако вернемся в «Красную звезду». К власти пришли демократы во главе с Горбачевым. Народ ошалел от новых лозунгов. Помню, шла кампания борьбы за трезвость. Коллектив редакции собрался в акто-вом зале отмечать День Победы. На столах самовар и чашки с чайными ложечками. Секретарша Главного Антонина Дмитриевна наливает из самовара чай. Николай Иванович поднял чашку.
СВЕТ ДАЛЕКОЙ «ЗВЕЗДЫ»
43


– Выпьем за Великую Победу!
В самоваре оказался не чай, а коньяк…
Это был последний праздник при Макееве. Вскоре его сняли с поста Главного редактора как представителя застойного времени. Главным редактором стал Панов Иван Митрофанович. На летучках он никого не критиковал, только кивал головой. Тираж газеты катастрофически катился вниз. А при Макееве достигал трех с лишним миллионов. Из армии, а значит и из газеты стали увольняться ведущие журналисты. Покинули ряды краснозвездовцев Слава Гаврилин, Стас Грибанов из от-дела авиации. Я тоже уволился в запас. Быстров какое-то время оставал-ся в «Красной звезде», а позже стал владельцем и главным редактором газеты Гражданской авиации «Воздушный флот», Рязанцев и я перешли в журнал «Мир безопасности». Многие краснозвездовцы устроились в ТАСС… Из моих ровесников краснозвездовцев никого не осталось. Ушли
в мир иной Ребров, Похоленчук, Пендюр, Безродный, Рязанцев и даже пятидесятилетний Светиков. На этом я ставлю точку и передаю перо тем, кто моложе, кто связал жизнь с военной журналистикой…
Больше всего я благодарен
«Красной звезде» за то, что она по-
могла сделать самый главный для
меня выбор в жизни, найти свою
литературную тему. Произошло
это не сразу и не вдруг. Но прои-
зошло с помощью именно нашей
главной военной газеты.
В «Красную звезду» я попал из самой популярной
и боевой в те времена газеты – «Комсомольская правда». И по-началу весьма переживал, что разъездной репортерский образ жизни пришлось сменить на
Николай ЧЕРКАШИН,
корр. отдела литературы
и
искусства (1970–1974 гг.),
спецкор группы спецкоров
(1974–1975 гг.),
корр. отдела БП ВМФ (1977–1978 гг.)


44 СВЕТ ДАЛЕКОЙ «ЗВЕЗДЫ»

кабинет литсотрудника, не корреспондента даже, а литературного правщика чужих материалов. Даром, что отдел назывался отделом литературы и искусства. После лихих командировок к оленеводам Таймыра или рыбакам Балтики, после множества поездок по стране, встреч с интереснейшими людьми, вдруг тишина кабинетной жизни, стол и стопка рукописей, которые надо было привести в должный вид перед сдачей в печать.
Отдел литературы и искусства «Красной звезды» был, наверное, одним из малочисленных: всего три сотрудника плюс начальник от-дела полковник-инженер Владимир Николаевич Жуков. Он занимал отдельный кабинет. Мы с майором Владимиром Возовиковым делили комнату с двумя столами – друг против друга. И отдельную комнатку занимала Гелия Павловна Драчева, которая ведала военной (и не только военной) кинематографией и живописью (в первую очередь Студией военных художников имени Грекова). Она запомнилась своей утонченной интеллигентностью, жизнерадостным взглядом на мир,
и дотошностью в отношении газетных материалов, которые готовил наш отдел.
Владимир Возовиков, замечательный писатель, автор военно-исторических романов, прекрасный человек, ностальгически вспоми-нал свою службу в войсках. А я ему искренне завидовал: ведь у меня не было своего полка, своего гарнизона, своих походов и своих боевых друзей, как у него… Возовиков отвечал за прозу и стихи, мне же выпали ЦТСА – центральный театр Советской Армии и окружные театры, а так-же военно-оркестровая служба МО СССР. Эта сфера военной культуры меня никогда не привлекала и не вызывала особого интереса. Разве что духовая музыка – отец начинал свою службу музыкантом полкового оркестра и много рассказывал о своих товарищах-оркестрантах, о том, как действовали они на передовой под Смоленском. В школьные годы я тоже играл в духовом оркестре (гены сказались!), но посвящать свою жизнь военной музыке никогда не собирался. Но коль скоро в «Красной звезде» мне выделили этот сектор журналистского обзора, я и обозревал его по мере сил. Главным достижением своим на этом поприще считаю очерк об авторе знаменитого марша «Прощание славянки» Василии Ивановиче Агапкине. Я был первым, кто взялся за эту тему, кто нашел членов семьи замечательного композитора, его никому не известные фотографии, ноты, его личный инструмент – корнет-а-пистон. Мне даже доверили его на несколько дней. Я отнес его начальнику Военно-оркестровой службы генерал-майору Николаю Михайловичу Назарову
СВЕТ ДАЛЕКОЙ «ЗВЕЗДЫ»
45

и предложил, чтобы первые четыре такта «Прощания славянки» про-звучали сначала на инструменте Агапкина, а потом уже во всю мощь главного оркестра Советской Армии. Назарову эта идея понравилась. Первые такты «Славянки» он сыграл сам. И имел на то особое право. Донской казак, настоящий боевой офицер-десантник (в годы Великой Отечественной после ускоренного окончания военной академии имени Фрунзе в 1943 году, майор Назаров воевал в должности заместителя командира 14-го гвардейского воздушно-десантного (6-я гвардейская дивизия ВДВ), а закончил войну подполковником – командиром 26-го гвардейского стрелкового полка (7 гв. сд). Четыре ордена Красного знамени – это о многом говорит…
Несмотря на разницу в званиях – он генерал, я – лейтенант, не-смотря на сорокалетнюю разницу в возрасте, мы нашли общий язык,
и я горжусь дружбой с этим замечательным человеком, воином, музы-кантом. Генерал-майор Назаров – дирижер всех парадов на Красной площади с 1958 по 1975 год. Прожил Николай Михайлович 92 года и скончался в 2000 году. Мой неисполненный долг – написать о Назарове поминальное слово.
Ни до, ни после не доводи-лось попадать в такой друже-любный коллектив, в котором не было никаких междусобойных склок и подковерных подси-живаний. Полковник Жуков, выпускник Военно-Воздушной академии им. Жуковского (окон-чил ее с отличием, как и второй ВУЗ – Литературный институт), сумел создать в нашем отделе почти домашнюю обстановку. У каждого была своя «епархия» и каждый честно вел свое дело. Газетная жизнь не баловала паузами, не давала «лишнего времени», но все же в минуты «перекуров» мы вели разговоры «за жизнь». У Возовикова был немалый опыт жизни и службы, он был старше меня, видел и знал

46 СВЕТ ДАЛЕКОЙ «ЗВЕЗДЫ»

больше, слушать его «бывальщины» или рассуждения о литературе было и интересно, и поучительно.







