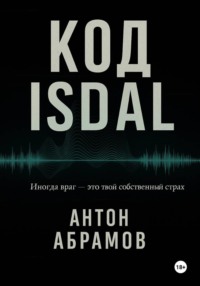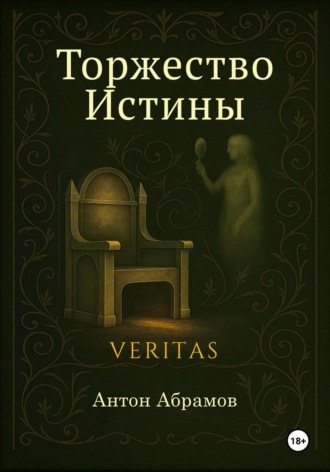
Полная версия
Торжество Истины
Алексей задумался, будто проверяя слова на вкус.
– В городе, где шум судовых гудков смешивался с дымом машинных отделений и школьными учебниками. Отец много работал, мать пыталась сохранить дом. Я рано понял: книги – единственное, что не поддаётся хаосу. Они были моей территорией, я в них растворялся.
– Поэтому ты стал юристом?
– Юристом я стал, чтобы зарабатывать. А читать продолжал, чтобы оставаться собой.
Она улыбнулась чуть заметно.
– Ты странный человек. В тебе не сходится многое.
– А может, всё как раз сходится, только ты смотришь под другим углом, – сказал он.
Машина скользила по Мейфэру, мимо особняков с белыми колоннами, коваными оградами и маленькими садами, где даже трава выглядела дисциплинированной.
– Всё это, – Ева провела рукой в воздухе, будто очерчивая квартал, – выстроено для покоя. Но на самом деле это фасад. За ним – сделки, интриги, войны. Лондон умеет носить маски.
– В этом он похож на людей, – заметил Алексей. – За внешней респектабельностью всегда скрывается то, что лучше не показывать.
Они оба замолчали. За окном мелькнули витрины книжных магазинов. Алексей задержал взгляд.
– Книги, в отличие от людей, не умеют носить маски. Но умеют хранить тайны.
– Или создавать их, – тихо сказала Ева.
И в этой фразе было предчувствие: тайны, за которыми они пойдут, уже тянулись к ним, как туман над Темзой.
* * *
Телефон Евы коротко вибрировал. Она взглянула на экран – имя отца. Подняла трубку, и голос в салоне стал тише, чем дыхание.
– Да, папа… – сказала она по-английски, её тон был уважительным, но свободным. – Спасибо. Я поняла… Конечно. Мы будем там к семи.
Она выключила телефон и задержала взгляд в окне, где капли дождя превращались в длинные серебряные нити.
– Он согласен? – спросил Алексей.
Ева кивнула.
– Да. Вечером. У Браунса.
– А он знает, ради чего мы идём?
Она посмотрела на него внимательно.
– Он знает достаточно. И, поверь, ему этого хватает.
Алексей чуть усмехнулся.
– Мне нравится эта формула: достаточно. Как будто в искусстве или в жизни можно что-то измерить дозами.
– Иногда приходится, – ответила она. – Даже великие картины существуют в мире счетов и расписок. Ты, как юрист, должен это понимать.
– Понимаю, – кивнул он. – Но всё равно не перестаю верить, что есть вещи, которые ускользают от любого контракта.
Ева вскинула брови.
– Например?
Он задумался, но не отвёл взгляда.
– Любовь. Или предательство.
Она не ответила сразу. Машина тронулась вперёд, и Лондон снова завертелся вокруг них: мостовые, арки, мокрые витрины, дым из уличных киосков.
За окнами тянулся Лондон – стальной и мокрый. Узкие улицы сменялись проспектами, витрины отражали потоки фар, а редкие деревья, высаженные вдоль набережных, выглядели так, словно их заставили дежурить на этом ветру. Машина мягко плыла по асфальту, и в этой плавности возникла пауза, в которой Ева решилась.
– Алексей, – сказала она спокойно, будто продолжала незаконченный разговор. – ты же понимаешь, что мне не хватит объяснения про «потерянный шедевр». Картина – это слишком тонкий предлог. Здесь что-то большее.
Он слегка повернул голову, взглянул на неё, но промолчал. В серо-голубых глазах скользнуло колебание, которое можно принять и за усталость, и за нежелание раскрывать карты.
– Я выросла среди коллекционеров, – продолжала Ева, – знаю, как звучат настоящие легенды. Обычно их используют, чтобы скрыть сделки или продать миф за миллионы. Но ты говоришь иначе. У тебя нет интонации торговца. Значит, на кону – не деньги.
Он усмехнулся почти печально.
– Деньги здесь действительно не главное.
– Тогда что? – её голос был мягким, но цепким. – Древние символы? Политическая игра?
Он замолчал на несколько секунд, и лишь звук дождя по стеклу заполнял тишину.
– Эта картина, – произнёс наконец Алексей, – должна стать подарком. Знаком. Жестом, который способен изменить тон переговоров между двумя самыми сильными странами.
Ева не отвела взгляда.
– Значит, Вы ищете не просто Брейгеля. Вы ищете аргумент для президентов.
– Да, – сказал он просто. – И понимаешь теперь, почему я не мог сказать сразу?
Она чуть склонила голову, как врач, который смотрит на пациента и пытается понять, насколько опасен диагноз.
– И ты веришь, что полотно может повлиять на войны и миры?
– Я верю, – Алексей посмотрел в окно, где темнела Темза, – что символы порой сильнее армий. Но… – он на миг запнулся, – я не уверен, что это делает всё правильным.
В машине стало теснее от его слов, как будто воздух принял на себя вес сомнений.
Ева тихо вздохнула.
– Ты знаешь, чем рискуешь?
– Знаю, – он улыбнулся коротко, безрадостно. – В лучшем случае – потерять себя. В худшем – убедиться, что уже давно потерял себя безвозвратно.
Она не ответила сразу. И только через несколько минут, когда за окном мелькнули ворота белого особняка, произнесла:
– Тогда начнём с того, что узнаем, существует ли эта картина вообще.
Лондон к вечеру умел становиться одновременно серым и золотым. Фонари зажигались на влажных мостовых, и казалось, что туман дышит янтарём.
4
Машина свернула в тихий квартал Челси, где высокие фасады таунхаусов смотрели на мир одинаково отстранённо: как будто здесь ничто не менялось уже двести лет, кроме марок припаркованных автомобилей.
Особняк Дэвида Браунса был скрыт за чугунными воротами с вензелями; за ними – сад с подсвеченными статуями, где поздние розы держали цвет вопреки сезону. Дом стоял не кичливо, а внушительно: белёные стены, колонны у входа, окна в три человеческих роста.
Внутри их встретил запах полированного дерева, старых книг и камина, где тлели поленья. На длинном столике в холле уже ждали фарфоровые чашки с чаем, серебряные блюда с сырами, виноградом, грецкими орехами. Всё это казалось частью привычного ритуала, а не гостеприимством ради эффекта.
Сам хозяин появился сразу – высокий, сухой мужчина лет шестидесяти, с серебром в волосах и спокойным взглядом человека, привыкшего к разговорам на любом уровне. На нём был мягкий серый костюм, который сидел так естественно, будто ткань сама выбрала его форму.
– Мисс Кларенс, – он склонил голову чуть больше, чем требовал этикет, – и ваш спутник, о котором я слышал достаточно, чтобы пожелать увидеть собственными глазами. Проходите.
Они сели в гостиной с высокими потолками, увешанной картинами в тяжёлых рамах. Было ясно, что половина этих полотен никогда не значилась в официальных каталогах.
Дэвид Браунс наливал чай, когда вдруг посмотрел прямо на Еву – взгляд его был мягок, но тверд, как отполированный камень.
– Мисс Кларенс, – сказал он почти небрежно, – если судьба снова сведёт нас делом искусства… вы вполне можете миновать отца…
Ева едва заметно приподняла бровь, уловив скрытый смысл.
– Вы полагаете, я уже готова обходиться без опекунов?
Браунс улыбнулся глазами.
– Я лишь замечаю: ваш отец джентльмен безупречный, но есть темы, которые легче обсудить без третьих ушей.
Она сделала паузу, взгляд её скользнул к Алексею, потом обратно к хозяину.
– В таком случае, мистер Браунс, считайте, что я приняла ваше приглашение в… как это сказать… закрытый клуб.
– Ах, – Дэвид мягко рассмеялся, – клуб у нас не по спискам, а по взглядам. Вы – уже внутри.
Алексей наблюдал за их обменом репликами. Слишком тонкий жест, слишком уверенное признание в «клуб» – и в её согласии прозвучала не только благодарность, но почувствовалось и доверие.
Он сделал вид, что поправляет манжет, и почти шутливо сказал:
– Осторожнее, Ева. Такие клубы редко отпускают членов по собственному желанию.
Браунс усмехнулся, будто подтверждая его слова.
– Именно потому в них и интересно.
Ева улыбнулась Алексею. Он же вдруг поймал себя на том, что смотрит дольше, чем нужно, на ее профиль в янтарном свете лампы. И в этом взгляде было не одобрение и не сомнение – скорее тихое беспокойство, которое он не стал называть.
– Но хватит о клубах. Итак, вы хотите найти то, чего, скорее всего, никогда не существовало.
Ева откинулась на спинку кресла.
– Вы тоже думаете, что это легенда?
– Я думаю, – Браунс слегка улыбнулся, – что легенды удобны: они дают занятость тем, кто ищет, и прикрытие тем, кто прячет.
Алексей ответил не сразу. Он изучал лицо хозяина – глаза, в которых жила усталость, и в то же время азарт охотника.
– Но если легенда вдруг оказывается правдой? – тихо произнёс он.
– Тогда, – сказал Браунс, – она перестаёт быть легендой и становится товаром.
Браунс отхлебнул чай.
– Архив Йонгелинка – это миф, но следы Йонгелинка действительно можно искать. В антверпенский архивах. Там – каталог утраченных и приписываемых полотен. Но туда не так-то просто попасть. Для публики он закрыт, а для специалистов – доступ ограничен.
– То есть, вы можете дать нам направление, – уточнила Ева.
– Да. Направление – всё, что я могу предложить.
Алексей слегка нахмурился.
– Простите, но этого мало. При всей моей любви к путешествиям, поехать как турист в Антверпен и постучать в дверь архива – значит вернуться с пустыми руками. Вы знаете это лучше меня.
Браунс рассмеялся – негромко, но с оттенком искреннего удовольствия.
– Вы требовательны, господин Фролов. Это редкость для людей вашей… профессии.
– А я не люблю полумер, – ответил Алексей. – Они отнимают время и не дают результата.
Браунс поставил чашку. Его глаза сверкнули.
– Хорошо. Уговорили. Но если вы хотите от меня большего, чем направление, – вы должны меня развлечь.
Он поднялся, подошёл к застеклённому шкафу в углу гостиной и открыл створки. На полках выстроились бутылки виски: янтарные, золотые, медные оттенки; этикетки с датами – 1950, 1964, 1972… Некоторые – с готическими шрифтами старых шотландских дистиллерий, давно закрытых.
– Моё хобби, – сказал он. – Моя страсть. И моя маленькая коллекция вопросов без ответов.
Алексей поднялся вслед за ним. Его глаза задержались на каждой бутылке, как будто он читал строки книги.
– Вы предлагаете игру? – спросил он.
– Да. – Браунс взял одну из бутылок, налил по капле в два тонких бокала и протянул один Алексею. – Назовите мне возраст, дистиллинг, отличительные ноты, – сказал он, – и возможно, вы убедите меня, что не просто ищете легенду, а чувствуете то, что её окружает.
Ева смотрела на них – на хозяина, которому было скучно без вызова, и на Алексея, в котором вдруг ожил азарт. В нём жила какая-то редкая, опасная смесь: умение играть и умение верить. Неужели он так хорошо разбирается в такой узкой теме? Как он выйдет из этого – грубо, как игрок, или тонко, как ценитель?
Алексей взял бокал, поднял его к свету, изучил янтарный цвет: приглушённый золото-медный, с лёгким ржавым отблеском на краю.
Он вдохнул: дым торфа, едва уловимая солёная нота, сухофрукт – чернослив, чуть инжира, и лёгкая дубовая терпкость с намёком на пряность, возможно, корицу и мускат. Он не спешил. Сделал глоток.
– Я бы сказал, – начал он тихо, – это шотландский single malt, возраст около двадцати пяти лет. Дистиллинг, возможно, островной, или по крайней мере сильно подверженный морскому воздуху – что даёт солоноватый оттенок. Выдержка в бочках, смешанных – ex-bourbon и европейский дуб. Послевкусие длинное, тёплое, с лёгкой горчинкой коры дерева и пряностей. Полагаю, это Talisker.
Дэвид Браунс закрыл глаза на мгновение, позволив себе лёгкую улыбку – она была не триумфом, скорее признанием.
– Верно, – произнёс он, – Talisker 25-летний, выдержка именно такова, как ты сказал: ex-bourbon плюс дуб европейский. Пряного – немного, но именно того, чтобы оттенить дым, а не задушить его.
Ева чуть приподнялась, её зелёные глаза дрогнули от удивления и уважения. В её взгляде было то, что трудно выразить словами – не восхищение, а понимание: она увидела, что за внешней хладнокровностью Алексея скрывается человек, который чувствует – и умеет слушать.
– Прекрасно, – сказал Дэвид, когда их глаза встретились. – Вы не просто претендуете. Вы – игрок.
Он вновь сел, осторожно опуская бокал.
– Тогда, – продолжил он, – вот что я сделаю. У меня есть друг в Антверпене – архивист, о котором я упомянул. Его зовут Герт ван дер Мер. Я свяжусь с ним завтра. Ты получишь его контакт, и, возможно, он разрешит тебе попасть в фонды, но только под моей гарантией. И самое главное: Йонгелинка вы не найдёте напрямую. Но если где-то и остался его след – то в записях Плантена. Там счётные книги, там контракты, там упоминания тех, кто платил за картины».
Ева чуть наклонилась вперед, и её голос был тихим, уверенным:
– Это больше, чем просто направление. Это возможность.
5
Они вышли в сумерки сада. Газон был влажный, от фонарей по нему растекался мягкий свет, и каждая капля росы казалась маленькой линзой. Воздух пах камнем и листвой, туман густел. Дверь за ними закрылась так плотно, будто вместе с ней захлопнулась целая эпоха.
В машине какое-то время было тихо. Только гул шин по мокрому асфальту, да отражения фонарей в лобовом стекле, которые прыгали, как огненные рыбки.
Ева первой нарушила молчание:
– Ты знал, что угадаешь?
Алексей улыбнулся чуть криво, глядя вперёд:
– Не знал. Просто почувствовал. Виски – это как читать старую книгу: главное не торопиться и уметь слушать тишину между строк.
Она повернулась к нему.
– Для тебя всё книги. Даже напиток.
– Возможно, – согласился он. – Но хорошие книги и хорошее виски похожи: оба требуют времени, оба оставляют послевкусие.
Ева тихо рассмеялась, но смех её был коротким.
– Я должна признаться… Ты удивил меня. Я думала, что люди с твоим прошлым живут проще. Быстрее. Без таких тонкостей.
– Ты имеешь в виду – без страниц и выдержек? – Алексей чуть пожал плечами. – Может быть. Но книги и выдержка – это тоже оружие. Просто не все умеют пользоваться.
Она замолчала, глядя в окно, где над дорогой висели тяжёлые ветви платанов. В её взгляде было нечто новое: не недоверие и не осуждение, а что-то вроде осторожного уважения.
– Тебе нравится удивлять, – сказала она наконец.
– Нет, – ответил он тихо. – Мне нравится быть собой. Но это редко кому интересно.
Машина выехала на набережную. В Темзе отражались огни, растянутые течением в длинные золотые линии.
Ева долго смотрела на эти огни, и в её памяти всплыло: отец всегда говорил, что настоящая сила – в предсказуемости. А этот человек рядом с ней был полной противоположностью: его нельзя было просчитать. И именно это начинало её и тревожить, и притягивать одновременно.
Она снова посмотрела на него.
– Всё же… зачем тебе эта картина? Почему ты готов идти так далеко ради тени на холсте?
Алексей не ответил сразу. Он смотрел на дорогу, на дождевые капли, скользящие по стеклу, и наконец сказал:
– Потому что в этой тени, возможно, отражусь я сам.
Эти слова повисли в машине так же густо, как туман за окнами.
6
Ночь скользнула тёмными тканями над Лондоном, когда машина остановилась у ступеней отеля, где Алексей должен был остаться. Ворота под фонарём лежали в тщетной тени, а воздух пах мокрым асфальтом, подогретым уличными лампами.
Ева вышла первой, дождь подмигивал каплями на её тёмно-рыжих волосах, чуть подсвеченных фонарём. Алексей снял пальто, сложил его аккуратно, как будто это было не просто пальто, а часть себя, несущая за плечами воспоминания.
– Спасибо за вечер, – сказала она, глядя на него.
Он улыбнулся тише, чем улыбка бывает, когда хочется сказать больше, чем позволяют приличия.
– За игру, – ответил он, – и за то, что ты слушала меня – о виски, о памяти…
Её глаза на мгновение задержались: да, что-то он сказал, что проскользнуло в воздухе – что виски оставляет послевкусие времени, что в аромате скрывается забытое.
– Я слушала, – прошептала она. – Чёртово выражение, но… красивое.
Он чуть наклонился, словно собираясь поцеловать руку, но остановился.
– До завтра, Ева, – тихо сказал он.
Она кивнула. Он повернулся и ушёл под навес отеля, шаги его глухо звенели по каменным плитам.
7
Лондон к вечеру стал мягче, свет фонарей ложился янтарными пятнами на мокрый после дневного дождя асфальт. Машина плавно свернула с оживлённой улицы в тихий переулок Ноттинг-Хилл, где дома стояли плечом к плечу – викторианские, пастельно-голубые, нежно-розовые, лимонные, как будто кто-то выстроил их в ряд, чтобы показать палитру возможных оттенков меланхолии. Сегодня хотелось приехать именно сюда – прежняя квартира мамы, которая давно уже стала уголком тишины Евы.
Ева остановила машину у дома с фасадом нежно-лавандового цвета. На чугунных перилах, ведущих к парадной двери, вились плющ и остатки летней глицинии. Здесь пахло влажной листвой и чем-то сладковато-дымным – ароматами соседских каминов. Она замерла на секунду, глядя на окна верхнего этажа: мягкий свет пробивался сквозь белые шторы, и от этого дом казался не зданием, а фонариком в руках ребёнка.
Поднявшись по узкой лестнице, Ева открыла дверь. Внутри её встретила тишина – густая, как бархат. Квартира была не роскошной в прямом смысле, но каждая деталь в ней говорила о вкусе и памяти.
Белые стены, пол из старого дуба, мягкий ковёр ручной работы. В гостиной – низкий диван цвета мокрого песка, а напротив него стеллаж с книгами. Полки ломились от альбомов по искусству, томов Вирджинии Вульф и Сьюзен Зонтаг, рядом стояли медицинские справочники – напоминание о несбывшейся мечте.
У окна – старое пианино «Bechstein», покрытое лёгким налётом пыли; на крышке – хрустальная ваза с сухими розами и фотография родителей. Мать, русская женщина с мягкими глазами, и отец – высокий англичанин с прямой осанкой, человек, который считал, что врачебная практика слишком тяжела для дочери, а искусство – достойнее и легче.
На стенах – диалог стилей: репродукция Брейгеля «Притча о слепых» соседствовала с абстрактным полотном молодого лондонского художника; рядом – небольшой этюд, написанный ею самой в юности, когда она ещё мечтала рисовать.
Она прошла на кухню – светлую, с серыми фасадами и медными ручками, где на подоконнике в керамических горшках росли базилик и розмарин. Включила кофемашину – привычный ритуал, даже вечером. Горячий аромат наполнил комнату, и она, сняв плащ, медленно поставила чашку на высокий столик.
Ева села у окна, глядя вниз на улицу, где редкие прохожие прятались под зонтами. Ей вспомнились слова Алексея за столом у Браунса: его взгляд, прямой и задумчивый, когда он говорил о виски и памяти, как о книгах, что хранят дыхание времени. Она ещё не знала, почему эта фраза задела её так сильно. Может быть, потому, что в нём одновременно звучали два мира – тень улиц и свет библиотек.
Она отхлебнула кофе, положила ноги под себя и позволила тишине заполнить её. Завтра они должны были лететь в Антверпен. Её часть миссии началась – и впервые за долгое время Ева ощутила не только профессиональный азарт, но и лёгкую дрожь ожидания.
8
Утро в Ноттинг-Хилл всегда начиналось с особого света: он был мягким, как если бы Лондон пытался извиниться за свои вечные дожди. Сквозь шторы пробивались полосы янтаря, ложились на деревянный пол, на белый плед, сброшенный ночью с дивана.
Ева проснулась рано, ещё до звонка. Некоторое время лежала, слушая, как за окном хлопают двери первых лавок, как тихо гудит автобус на соседней улице. В кухне кофемашина снова наполнила воздух запахом свежесмолотых зёрен.
Телефон завибрировал на столике. Она, не торопясь, взяла трубку.
– Доброе утро, – голос Алексея был бодрым, чуть ироничным. – Как спалось в столице империи?
– В столице империи всегда спится настороженно, – ответила она. – Что-то подсказывает: сегодня начнётся настоящий марш-бросок.
– Начнётся, – он сделал паузу. – Антверпен. Вылет в одиннадцать. Все расходы я беру на себя.
– Прекрасно, – сказала она спокойно, хотя внутри кольнуло лёгкое волнение. – Надолго?
– Никто не знает, – ответил он. – У некоторых городов есть привычка держать гостей дольше, чем они планировали.
Она улыбнулась его интонации и пошла собирать вещи. Чемодан был небольшой: несколько платьев, удобные туфли, папка с заметками по северному Возрождению. Всё строго, элегантно и без излишеств.
* * *
Такси скользило по улицам Лондона. За окнами мелькали разноцветные фасады, книжные лавки, утренние кофейни с очередями у дверей. Когда они встретились у аэропорта, он стоял у входа с лёгкой дорожной сумкой и газетой в руках. Брюнет, высокий, в простом пальто. Серо-голубые глаза, в которых было больше наблюдательности, чем самоуверенности.
– Вижу, ты не любишь лишнего багажа, – заметила она, кивнув на его сумку.
– Чем меньше вещей, тем проще двигаться, – ответил он. – А всё лишнее всё равно тащим внутри.
* * *
Хитроу гудел, как улей. Табло высыпали строки вылетов; за стеклянными стенами шли самолёты, похожие на белых китов, которых медленно буксировали к морю. Они прошли контроль, молча обменялись усмешкой на строгие взгляды пограничников и оказались в зале ожидания.
– Никогда не любила аэропорты, – сказала она. – В них всегда слишком много прощаний.
– А я люблю, – признался он. – Они как книги без конца. Всегда можно перелистнуть страницу и начать что-то заново.
Она не ответила, лишь посмотрела на него с интересом: этот человек всё больше напоминал ей ребус.
* * *
В самолёте им достались места у окна. Металлический корпус слегка дрожал, пока лайнер отрывался от полосы. За стеклом Лондон быстро распластался под утренним светом, оставляя после себя лишь золотые пятна крыш и туман над Темзой.
Когда высота стабилизировалась, включили табло новостей. На экране промелькнули строки: «Новые обстрелы… повреждения инфраструктуры… стороны обвиняют друг друга…»
Молчание стало тяжёлым, как свинец. Первая заговорила Ева:
– Ты ведь понимаешь, что всё это не может быть оправдано? Ни стратегией, ни историей.
Он посмотрел в иллюминатор, где облака ложились мягкими пластами.
– Я понимаю. Но я также знаю, что для многих оправдание уже найдено. Оно в истории, в памяти, в ранах. Это не значит, что я его принимаю, – сказал он, не отрывая взгляда от белёсой линии облаков.
Ева нахмурилась, чуть откинулась на спинку кресла.
– История – это тоже удобный зал ожидания, – произнесла она медленно. – Там можно спрятаться, пока реальность идёт своим ходом. Но разве не опасно всё время смотреть назад? В какой-то момент оправдания становятся тяжелее самих поступков.
Алексей повернулся к ней. Серо-голубые глаза были усталые, но в них жила острая внимательность, как у адвоката, который слышит в словах оппонента не позицию, а трещины.
– Опасно, – согласился он. – Но попробуй сказать это тем, кто живёт внутри этого. Для них история – не музей. Это их дом. И когда дом рушится, они хватаются за обломки, даже если те остры, как стекло.
Она задержала дыхание. В его голосе не было пафоса, только констатация.
– Значит, ты оправдываешь? – тихо спросила она.
– Нет, – ответил он после паузы. – Я только пытаюсь понять. Понимание – не то же самое, что согласие.
Он говорил спокойно, но Еве показалось, что за этой ровностью скрыт какой-то нерв. Она смотрела на его руки: крепкие, с короткими ногтями, одна ладонь лежала на подлокотнике, другая – на колене. Руки человека, который умеет сдерживать себя и в то же время готов в любой момент выплеснуть силу.
– Ты юрист, – сказала она почти упрямо. – Для тебя должно быть просто: есть закон, есть нарушение. Всё.
Алексей усмехнулся, но усмешка была сухая.
– Закон? Закон – это не скрижаль. Его подписывают, пока всем удобно. Потом меняют. Иногда рвут. Я слишком долго жил среди тех, кто знает цену бумаге.
Она откинула голову, глядя в потолок, где тонкая линия ламп освещала салон.
– Тогда, может быть, всё, что у нас есть, – это личный выбор? Сказать «нет» и остановиться.
– А если твоё «нет» обернётся пустотой для тех, кто тебе дорог? – спросил он. – В этом и проклятие: иногда твой отказ от оружия становится ещё большим оружием для врага.
Они оба замолчали. Шум двигателей заполнил паузу, гулкий, как бесконечный аргумент, который нельзя перекричать.
Через несколько минут Ева сказала тише, вполголоса:
– Я всё равно не могу смириться с тем, что кто-то считает разрушение выходом. Это всегда ошибка.
Алексей кивнул.
– Я тоже. Но, может быть, поэтому я и ищу эту картину. Не чтобы найти оправдание. А чтобы найти язык, на котором можно будет сказать это так, чтобы услышали.