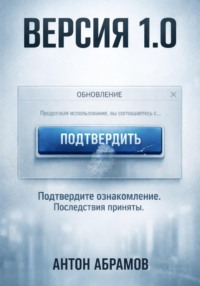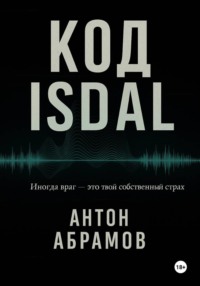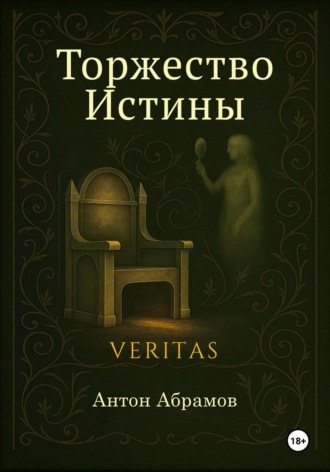
Полная версия
Торжество Истины
Телефон коротко дрогнул: «Напоминание: 10:30 – встреча». Он выключил напоминание и, прежде чем уйти, оглядел комнату взглядом человека, для которого порядок – это не про вещи, а про возможность вернуться туда, где нужное лежит на месте. Взгляд задержался на компасе. Он взял его, пожал в ладони, вернул на место. Понять направление – не значит его принять. Иногда достаточно знать, где север, чтобы позволить себе идти на запад.
В прихожей он надел лёгкое пальто, серую шёлковую шарф-петлю – август в этом городе всегда был немного октябрём. Закрыл дверь. На лестничной клетке пахло свежей краской и каким-то чужим табаком; лифт ехал медленно, будто проверяя, точно ли он хочет вниз.
На улице дворник, присев на корточки, выковыривал из брусчатки мокрый мусор; над рекой собирались плотные облака, но дождь ещё не решился. Алексей шагал к набережной и чувствовал в себе ту редкую ясность, которая приходит перед настоящим делом. Ясность без эйфории. Как на старте забега, где ты понимаешь: быстрым этот круг быть не должен. Здесь выигрывают не рывком.
На повороте он встретил соседа – мужчину лет шестидесяти, сухого, с осторожной улыбкой. Тот кивнул на галстук:
– Проверка на серьёзность?
– Скорее – на память, – ответил Алексей. – Чтобы самому себе напомнить, что сегодня – не понедельник, но произойдёт больше, чем по понедельникам.
Сосед хмыкнул, не спросил лишнего. В таких домах умеют не задавать вопросов. И в этом – странное удобство: можно жить здесь, не объясняясь никому, кроме себя.
Он перешёл дорогу, дождался такси и сел, сказав адрес коротко – Антиквара не называл в голос и для водителей. Машина тронулась, и Петербург поплыл: мосты, вода, облупленные цоколи, вывески, где буквы красиво обваливаются с краёв. Алексей смотрел на город через стекло и думал о задаче, которая его ждёт. Возможно, впервые за много лет ему предстояло искать не доказательства и не формальности – образ. И в этом была неожиданная честность: образ либо складывается, либо нет. Его не прижимаешь к стенке, не уговоришь, не купишь дополнительным ходатайством.
Он улыбнулся сам себе. Странно, что внутреннее ощущение было не от юридической «готовности», а от той самой школьной – перед олимпиадой, где ты не знаешь, какая задача выпадет, но точно знаешь, что сегодня у тебя получится сложить миру новую формулу. Не грандиозную, просто свою.
Такси сворачивало к нужному дому. Он ощутил, как привычные команды в голове – «держи паузу», «убери лишние слова», «смотри в глаза, когда задаёшь границы» – сменились одной, которой в его профессии обычно нет: «не лги себе». И именно эта команда показалась ему главным инструментом на ближайшие часы.
Перед дверью офиса он коротко вдохнул. За этим порогом его ждали чужие карты, чужая игра и тот самый голос с мадерой. Он вошёл – спокойно, как в воду, где уже знаешь глубину. И всё же – с той свободой внутри, которая появляется, когда понимаешь: иногда правда – не цель, а способ идти.
Сегодня ему предстояло это проверить.
В камине тлели остатки поленьев – не для тепла, а для вида: Антиквар любил запах сгоревшего дерева, он будто соединял его с давними веками, когда власть измерялась не цифрами на счёте, а числом мечей в подчинении.
Лёша вошёл без лишних слов. Его учили не задавать вопросов, пока не попросят.
– Садись, – кивнул Антиквар. На столе перед ним лежала та же папка, что два дня назад перелистывал Браунс в Лондоне.
– У нас заказ, – сказал он, растягивая слова. – Не от коллекционера, не от музея. От тех, кто не любит, когда им отказывают. Понимаешь?
Лёша молча кивнул.
– Речь идёт о Брейгеле. Картина, которая по документам исчезла в бурях шестнадцатого века. «Торжество Истины». Возможно, миф. Возможно, тень. Но если она найдётся – это станет козырем на переговорах, которые решат больше, чем танковые дивизии.
Антиквар прищурился.
– Ты спросишь: зачем им это? Картина против санкций? Живопись вместо ракет? Звучит смешно, да? Но иногда не оружие решает, а жест. Подарок, который открывает дверь, казавшуюся навсегда закрытой.
– Не уверен, что картина способна изменить что-то в мире, где всё решают ракеты.
– Ошибаешься. Ракеты показывают силу. Но картина – показывает культуру. А культура – это власть иного рода. Поверь, люди, которые сидят наверху, чувствуют это сильнее, чем мы с тобой.
Он постучал пальцем по папке.
– У тебя будет напарница. Англичанка, искусствовед. Досье здесь. Имя – Ева Кларенс. Умна, осторожна, но умеет открывать те двери, куда ты войти не сможешь. Работай с ней.
Лёша взял папку, перелистнул пару страниц. Строгий профиль на фотографии, холодный свет библиотеки.
– И ещё, – голос Антиквара стал ниже, – не путай задачу. Ты – глаза и уши. Она будет искать, а ты – докладывать. И помнить, для кого работаешь.
Лёша закрыл папку. Слишком многое в его жизни уже было перечёркнуто, чтобы спорить.
– Когда вылетать? – спросил он.
– Завтра. Лондон. Там тебя встретят.
Антиквар улыбнулся – не глазами, только уголками губ:
– И запомни: картины могут быть ценнее жизней. Особенно чужих.
V. Начало пути
«Каждая встреча – это перекрёсток судеб, который нельзя пройти дважды». Лев Шестов
1
Дождь в Лондоне умеет не идти, а находиться: тонкая взвесь, как если бы воздух, перемерив себя, решил чуть-чуть утяжелиться. Терминал дышал стеклом и металлом. Вдаль уходила крыша-волна, под ней – один непрерывный объём, почти без колонн, свет, который не столько падал сверху, сколько равномерно расплывался, как белёсая акварель. Пространство казалось не залом, а рельефом света: длинные, чистые пролёты, полосы багажных лент, прозрачные перегородки, через которые просматривалась жизнь других – параллельные комедии ожидания, вечно идущие на соседних площадках.
Указатели – чёрные с жёлтым – не спорили с архитектурой, они как будто знали здесь свой регистр: краткость, контраст, глагольность. Стрелки дарили ощущение грамматики в мире, где у каждого – свой синтаксис спешки. Где-то наверху, в промежутках уровней, тихо шевелилась «облачная» кинетика – диски переворачивались, ловя свет, и весь зал на секунду казался огромным аквариумом, в котором металлическая рыба учится быть облаком.
Алексей вышел в этот зал, как выходят в неожиданно освещённый двор после тесной лестничной клетки. На нём был тёмный дорожный плащ с высоким воротником, простой, почти школьный свитер под ним, и та аккуратность, которую некоторые принимают за холодность, потому что с ней не спорят. Он шёл, не торопясь и не замедляясь – будто его шаг уговаривал пространство не делать резких движений.
Ева стояла у стеклянной перегородки чуть в стороне, чтобы попасть в тень, – у таких людей даже ожидание выглядит сдержанным. Высокая – почти метр семьдесят пять – при этом не «модельная», а простая и рельефная красота: темно-рыжие волосы с тёплой медью вдоль висков, собранные в мягкий узел; кожа светлая, без демонстративной фарфоровости; зелёные глаза, в которых есть и ирония, и та редкая внимательность, будто человека учили не только смотреть, но и слушать взглядом. На ней – длинное пальто глубокого бутылочного оттенка, тонкий шерстяной костюм в едва заметную полоску, светлая шёлковая блуза, шарф с матовым, как припылённый янтарь, принтом; из украшений – ничего блестящего, только тонкое золото часов, которое легко можно принять за старую семейную вещь. Каблук – низкий, устойчивый, уверенный. Вкус – не «классика», не «авангард», а умение одеть себя в смысл: элегантно, несуетно, со знаком качества, который не нуждается в логотипе.
Он заметил её раньше, чем она его – по выражению лица, в котором узнавание всегда слегка запаздывает: сначала оцениваешь силуэт, потом – осанку, и потом только – черты. Она – тот редкий тип, у которого осанка – часть речи.
Ева посмотрела в его серо-голубые глаза – из тех, что умеют не показывать, насколько много они видят.
– Алексей Фролов? – спросила она, когда он подошёл на шаг. Голос – низкий для такой хрупкости, в нём было мало «английского льда» и много профессиональной ровности.
– Да. Ева Кларенс? – он слегка наклонил голову – движение, в котором чувствовалась старая школа: вежливость, не унижающая ни того, кто её проявляет, ни того, кому она адресована.
– Просто Ева. – Она улыбнулась, но улыбка была экономной, как вежливость у людей, у которых на эмоции тоже есть бюджет.
Кто-то позади них тянул чемодан, и звук колёс по белому полу слился с шёпотом кондиционеров. Под потолком проговорился динамик – без ярости, без нервной ускоренности – как будто микрофону, прежде чем обратиться к людям, выдали памятку: «Никакой паники, мы в Лондоне». Вдали, в проходе, заметался серебристый завиток «скольжения» – авиационный жест, переведённый в алюминий, – и на секунду стало понятно, что архитекторы и художники иногда умеют то, что не удаётся политикам: объяснять движение не словами, а формой.
– Первый раз в Лондоне? – спросила Ева, когда они двинулись к выходу?
– Нет, – ответил Алексей, – Я бы сказал впервые после долго перерыва.
– Тогда Вам нужно знать, что Лондон любит тех, кто делает вид, что знает дорогу, – слегка улыбнувшись добавила Ева.
– Это универсальная техника выживания, – произнес Алексей. – Делать вид, что знаешь дорогу, даже если табличка подозрительно молчит.
– Таблички тут не молчат, – она кивнула на чёрно-жёлтую навигацию. – Они разговаривают с тобой как строгая, но справедливая тётя. Коротко, разборчиво и без сантиментов.
– Значит, мы в гостях у тёти, – ответил он. – Придётся держать спину.
Они остановились у стеклянных дверей, за которыми тянулись полосы перрона, грузовики, катафалки багажа и что-то удивительно домашнее – ряд одинаковых кресел напротив огромного окна, где несколько одиноких людей решали, что важнее: позвонить или просто подождать. В отражении стекла Ева мельком рассмотрела его профиль – и невольно отметила: «Не тот, кого рисуешь на словах «уголовное прошлое». Плечи – сдержанные, как характер, руки – без лишних жестов, глаза – из тех, что выдают образование не количеством прочитанного, а способом смотреть».
– У нас будет сорок минут спокойной дороги, – сказала она. – Если повезёт, больше. Сегодня дождь интеллигентный.
– Он всегда интеллигентный, – ответил Алексей. – Просто иногда забывает, как склоняются прилагательные.
На миг она удивлённо посмотрела – не столько на фразу, сколько на то, как легко она произнесена: тона уместной шутки, у которой нет вторых намерений. Для человека, про которого ей успели достаточно прозрачно намекнуть, откуда он, – это был неожиданный регистр.
Они пошли к парковке, мимо длинных полос транспортёров, мимо витрин, где кофе пахнет одинаково в любой стране, и мимо людей, чьи истории, наверное, различались радикально, но были похожи в одном – у каждого была своя срочность.
С улицы их встретил холодный влажный воздух. Машина уже ждала – без табличек, без театра. Водитель поздоровался коротким британским «Evening».
– Если вам не трудно, – сказала Ева, – по M4 и на набережную.
– As you wish, miss, – ответил водитель.
Они устроились на заднем сиденье. Алексей снял плащ и аккуратно, без привычного мужского небрежения, положил рядом. Ева отметила – не глазами, памятью – что он умеет обращаться с вещами так же, как с людьми, которых уважает.
– Мне сказали, – начала она, – что вы любите говорить «вы» с первой минуты. Это не официоз?
– Привычка, – сказал он. – Иногда «вы» помогает не сказать лишнего. А иногда – наоборот.
– Посмотрим, куда у нас с «вы» повернёт, – в её голосе прозвенела лёгкая улыбка. – Я человек семейный в том смысле, что за тоном слежу хуже, чем за смыслом.
– Это редкая дисциплина, – Алексей посмотрел на мокрый город за стеклом. – Следить за смыслом.
Он вновь скосил взгляд на Еву. Она сидела чуть вполоборота, как умеют сидеть женщины, у которых хорошая осанка и нет нужды демонстрировать это. Зеленоватый свет от приборной панели ложился ей на скулу, и казалось, что оттенок глаз становится темнее.
– Вас, наверное, предупреждали обо мне, – сказал он без нажима. – Это не секрет.
– Представляете, – ответила Ева, – предупреждали. И в голове у меня получался человек с другим словарём. Грубее, громче.
– Простите, разочаровал?
– Наоборот, – она посмотрела чуть внимательней. – Я не люблю сюрпризы, но ценю несовпадения. Они честнее.
Он усмехнулся.
– Несовпадения – это и есть моя биография.
За стеклом терминал отступал. Волна крыши, словно последний раз дохнув, растворилась в дождливой дымке. Где-то сбоку из-под земли уходили поезда – свет проваливался вниз, к перронам, и казалось, что в аэропорту есть своя подземная река, которая уносит тех, кто выбрал невидимую дорогу.
Ева снова посмотрела на него – теперь уже открыто: осанка, руки, голос. И, будто делая мысленную сноску, отметила: «Да, это тот самый тип: сдержанная вежливость и железный нерв. И то, что он не играет в «тёмного романтика», – уже хорошо».
– Простите, – сказала Ева, – я говорю «простите» чаще, чем того требует обстановка. Профессиональная деформация – в залах музеев принято извиняться даже перед пустой стеной.
– В кабинетах юристов – тоже, – ответил он. – Только там чаще извиняются после решений.
– И как вы относитесь к решениям?
– Как к погоде в Лондоне, – сказал Алексей. – Ты можешь предсказать, но не можешь приказать.
Она кивнула. У этого кивка не было гендерной окраски: это был жест равного собеседника, принимающего формулу, в которой что-то щёлкнуло верно.
Эта встреча – не начало романа; это начало интонации, – подумал он. И впервые за весь день позволил себе расслабить плечи.
2
Автомагистраль не спорит с городом – она его кормит. Машина мягко набирала скорость. Дождь не усиливался и не уходил – как наблюдатель, который считает себя необходимым.
– Я правильно поняла, что Вы жили когда-то в Лондоне? – спросила Ева.
– Приезжал. У меня есть странная привычка любить города, где никому не нужен, – сказал Алексей. – Это освобождает от местных правил.
– Любопытный метод, – Ева чуть наклонила голову. – Но в Лондоне всё равно всё доведут до правил: тут даже хаос регулируется постановлением.
– В этом есть шарм, – он улыбнулся. – Когда хаос воспитан, за него легче отвечать.
Машина пересекла развязку, и огни стали гуще. Сверху по стеклу прошёл ровный взмах стеклоочистителя, как вздох. Ева, не глядя на него, сказала:
– Меня позвали помогать Вам потому, что я умею видеть то, что прячут в картинах. Звучит пафосно, но такое ремесло.
– В ремесле добрая половина философии, – ответил он. – Просто философия тут работает руками.
Она усмехнулась.
– Это мама во мне говорит. Её философия всегда заканчивается на уровне пульса и дыхания.
– Врач? – спросил он, хотя уже знал.
– Да. С тех пор, как научилась говорить, знала слова «терапия» и «аккуратно». Отец считал, что такая жизнь слишком тяжёлая для «ласкового сердца», и отправил меня в искусство – «там красивее и спокойнее». Оказалось: не всегда.
– Красивое редко спокойное, – сказал Алексей. – Но иногда спасает.
– Вы это говорите как человек, которого спасали.
– Я это говорю как человек, который должен был спасаться, – ответил он.
Она не улыбнулась – только чуть смягчила взгляд.
– А вы – как человек, который должен был лечить, – добавил он после паузы. – Но лечите картины.
– И зрителей, если повезёт, – сказала Ева. – Иногда просто честностью экспозиции. Удивительно, сколько в этом морали – без морализаторства.
– Люблю такие конструкции, – он перевёл взгляд на её руки: тонкие пальцы, без драгоценностей. – Когда добродетель достигается инженерным способом.
– Вы говорите как юрист, – заметила она. – И как человек, для которого правила – не повод смириться, а инструмент.
– Бывало по-разному, – он помолчал. – Иногда инструмент становится молотом, и тогда рукам нравится вес. Чтобы отказаться – нужно помнить, зачем взял его в первый раз.
Ева не ответила. Дорога шла ровно, машина глушила кочки, и всё вокруг – указатели, фонари, редкие окна – складывалось в ощущение, что этот город из тех, кто убаюкивает, чтобы спросить потом жёстче.
– Мне говорили, – сказала она, – что вы много читаете. Это заметно по тому, как вы ставите паузы.
– Паузы – результат не чтения, а ошибок, – ответил он. – Чтение только помогает сформулировать, где ты был неправ.
Теперь усмехнулась она:
– По-моему, это все же говорит человек, который наверняка любит одного российского романиста, от которого у меня сыплется кожа.
– У всех свои аллергии, – сказал Алексей. – Он мне нужен не для обожания, а как диагностический инструмент. Он точен в грязи.
– А я предпочитаю тех, кто точен в ясности, – сказала Ева. – Меня воспитали в том, что человеку полезнее светлая комната, чем тёмный подвал. Хотя иногда и подвал нужен – чтобы понять, откуда сквозит.
– Приятно, что мы договорились хотя бы о сквозняке, – он улыбнулся.
* * *
Они въехали в городскую ткань. Влажные фасады, блеск мостовой, редкие тихие окна, где люди делали вид, что их жизнь не переезжает каждую ночь на новое место. Машина свернула к набережной. Где-то из-за поворота показалась река – не серебро, а жидкий графит.
– Мы поселим Вас в отеле рядом с водой, – сказала Ева. – Я всегда так делаю с приезжими. Вода делает вид, что объясняет город за меня.
– Вода хорошо врёт, – сказал Алексей. – Но её приятнее слушать.
Фойе отеля оказалось тёплым, как дыхание хорошо воспитанной собаки. Тишина, ковёр, дубовая стойка, свет, который специально держали на шаг ниже дневного – чтобы ночь не ревновала. Они остановились у ресепшн. Официант, проходя, поставил на стол у дивана две чашки чёрного кофе – кто-то всё-таки читал мысль.
– Я провожу вас до номера, – сказала Ева. – И оставлю до завтра. Вам нужно будет привыкнуть к нашему времени и к тому, что здесь все говорят «sorry», когда ничего не случилось.
– У нас и «прости» произносят, когда случилось всё, что можно, – ответил он. – Слова – вежливые животные, их легко приучить к ложной тревоге.
– Тогда договоримся, – сказала она, – что мы с вами будем словами не злоупотреблять. А завтра – начнём.
– Завтра, – повторил он.
Они поднялись в лифте. Зеркала множили их – двоих чужих людей, которые почему-то выглядели рядом не чужими. В коридоре пол был мягкий, как новая идея: по нему хотелось идти медленно, чтобы не спугнуть.
– Ева, – сказал Алексей у двери номера, – спасибо, что встретили.
– Это моя работа, – ответила она. – Но не только.
И на секунду он увидел ту редкую вещь, что в людях ценит выше других: когда фраза не требует подпорок – ни из оправданий, ни из пояснений.
Дверь мягко закрылась. В номере было полутемно. Он подошёл к окну, тронул штору, посмотрел на воду. Лондон шумел приглушённо – как человек, который разговаривает, не желая просыпаться. И Алексей внезапно понял, что усталость уходит, а вместо неё приходит аккуратная, без фанфар, решимость: завтра – начать.
3
Гостиничные окна выходили на узкую улицу, где мокрый асфальт уже подсох, но всё равно отражал утренний свет, как лист плотной бумаги, промокший и высушенный в спешке. За окнами – скрип колёс, звон фарфора из соседнего кафе, глухой топот: город пробуждался без суеты, но с достоинством.
Алексей вышел в холл: тёмный костюм без галстука, лёгкий плащ на сгибе руки. Волосы ещё влажные от душа, и это придавало ему немного небрежный вид, не соответствующий выученной сдержанности. В руках – маленькая записная книжка, в которой он что-то пометил ещё до завтрака.
Ева уже ждала за столиком у окна. На ней был тонкий светлый свитер и строгие брюки; рыжеватые волосы собраны в небрежный узел, но каждая прядь казалась частью продуманного образа. Она держала чашку обеими руками, словно согревалась – хотя в зале было тепло.
– Доброе утро, – сказал Алексей, присаживаясь напротив.
– Оно может быть добрым? – ответила она, и в голосе её звучала лёгкая улыбка. – Лондон всегда кажется мне сонным утром. Как старый профессор, который открывает лекцию и сам ещё не проснулся.
Алексей отметил: да, профессор – точное слово.
– Но профессор, которого все равно слушают, – добавил он. – Даже если половина аудитории дремлет.
Официант поставил перед ним чашку кофе и корзинку с тёплыми круассанами. Алексей поблагодарил, сделал глоток – и, чуть поморщившись, заметил:
– Честно, я никогда не понимал, почему у англичан кофе всегда на грани преступления. Чай – да, тут безупречно. Но кофе…
Ева рассмеялась тихо:
– А в России кофе уже давно научились варить? Или вы всё ещё держитесь за чай, как за крепость?
– Мы держимся за то, что нас держит, – ответил он уклончиво, и сразу пожал плечами. – Но это всё отговорки. На самом деле, кофе в Петербурге не хуже римского.
Она прищурилась:
– У вас было время сравнивать?
– Было. В тюрьме много думаешь о том, что лучше: кофе или свобода. И не всегда очевидно, – сказал он спокойно, не как признание, а как обыденность.
Она поставила чашку на блюдце чуть резче, чем хотела.
– Знаете, я ждала кого-то… другого. Как я уже говорила, человека с вашей биографией представляешь скорее громким, чем тихим.
– Так Вы все таки разочарованы? – спросил он ровно.
– Я… скорее озадачена. Юрист, бывший заключённый, а сейчас – собеседник, который рассуждает, как будто всю ночь читал Камю. Это нарушает мои удобные стереотипы. И, кстати, давай перейдем уже на ты.
Он улыбнулся одними уголками губ.
– Тогда у нас есть шанс. История ведь и начинается там, где рушатся стереотипы.
Она на секунду задержала на нём взгляд, затем потянулась за круассаном.
– Хорошо. Пусть история начинается. С чего?
– С картотеки, – ответил Алексей, будто проверяя её реакцию. – Я задавался вопросом с чего начать и один человек сказал мне: если в Антверпене искать что-то утерянное, начинать стоит с Йонгелинка.
– Йонгелинк, – повторила она, чуть растягивая слоги. – Богатейший торговец XVI века, коллекционер. У него хранились десятки полотен, включая Брейгеля. Да, это логично.
– Значит, вы знаете о нём больше, чем я, – сказал Алексей. – Это ваше поле.
– А вы, – она слегка кивнула, – вы умеете задавать правильные вопросы.
Он посмотрел в окно: серый свет Лондона ложился на её лицо, делая зелёные глаза почти прозрачными. И подумал: путь – это и есть то, что сейчас начинается.
– Архив Йонгелинка, – протянула она задумчиво, – Просто так туда не войти. Ты можешь приехать туристом в Антверпен, можешь стоять на площади и смотреть на фасады, но в саму картотеку тебя никто не пустит.
Алексей поднял бровь.
– И что же ты предлагаешь?
– Есть человек, – её голос стал чуть суше, как будто сама мысль ей неприятна. – Партнёр твоего работодателя. Дэвид Браунс. Отец знает его. Они общались не раз – коллекции, аукционы, лошадиные выставки. Для меня он всегда был образцом тех, кто снаружи безупречен, а изнутри питается тенями. Но если он захочет, двери откроются.
– Ты сможешь устроить встречу?
– Смогу, – кивнула Ева. – Я позвоню отцу. Он не задаст лишних вопросов. Для него это будет лишь прихоть дочери – познакомиться с владельцем галерей поближе.
Она поднялась, пошла к окну и на секунду задержалась там, в свете. Рыжие пряди, подсвеченные небом, казались пламенем, которое едва держит стекло.
– Мы дождёмся ответа вечером, – сказала она, вернувшись. – А пока… у нас есть время.
Алексей кивнул.
– И как ты собираешься заполнить эти часы?
– Заполнить? – она усмехнулась. – Лондон сам всё заполнит. Достаточно выйти и позволить улицам вести тебя.
Они вышли из кафе, и воздух был влажный, пахнущий углём и мокрой травой. Машина ждала у тротуара. Когда двери закрылись, город остался за стеклом – как картина, которую кто-то сменяет каждые несколько секунд: серые фасады, витрины, зонтики, торопливые силуэты.
– Ты знаешь, – сказала Ева, когда мотор загудел мягко и ровно, – я выросла среди таких фасадов. Но дома всё же были другими: больше пространства, больше тишины. Английская строгость и… русская душа. Мама читала мне вслух, пока папа учил меня ездить верхом. Всё это было странным соединением.
– Гармоничным, судя по тебе, – ответил Алексей.
Она чуть повернула голову.
– Ты думаешь? Иногда я вижу в себе слишком много противоречий.
– Противоречия – это хорошо, – сказал он. – Они держат человека живым.
Он посмотрел на неё: волосы, тёмно-рыжие, ловили свет; глаза отражали город, как два маленьких зеркала.
– А ты? – спросила она. – Где твоё детство?