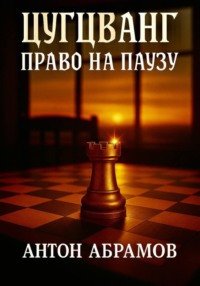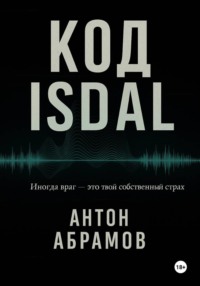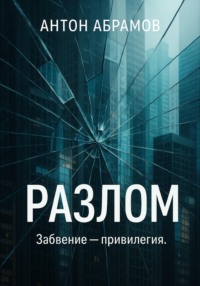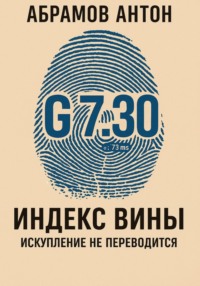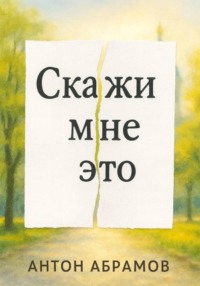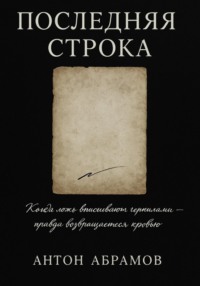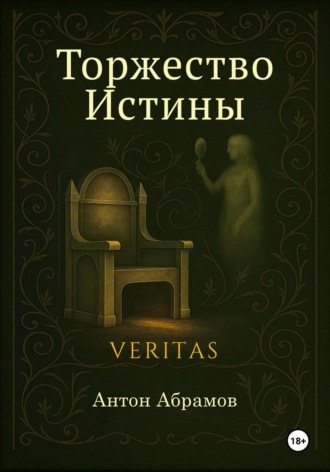
Полная версия
Торжество Истины
Самолёт летел над Северным морем. В иллюминаторе облака расступались, и на их месте мелькали зелёные пятна земли.
Ева посмотрела на него. Впервые ей показалось, что он не играет в двойственность, не скрывается за умными оговорками. В его голосе звучала простая, почти детская жажда ответа, она чуть улыбнулась – без победы, но с признанием услышанного:
– Хорошо, договоримся так: ты не требуешь от меня согласия, я – от тебя апологии. Остальное доверим воздуху. Но знай: однажды я спрошу: что ты хочешь себе купить – билет к правде или право на молчание?
– Я же юрист, – усмехнулся он. – Я знаю: право на молчание ничего не стоит, пока ты его не нарушил.
– Опасная шутка, – заметила Ева. – Но мне нравится.
VI. Антверпен. Алтарь теней
«Ступени к свету начинаются внизу, у самых темных порогов». Иоанн Климак
1
Воздух сработал быстро: посадка началась почти сразу. Самолёт лёг на глиссаду, и город, обрамлённый каналами, приблизился – со шпилем Собора Богоматери, с квадратом складов и тихим портом. На табло промелькнуло «ANR». Антверпенский аэропорт – маленький, почти камерный, в Дёрне, в нескольких милях к юго-востоку от центра; двадцать минут на машине – и ты уже среди старых улиц.
Ева, не отрываясь, смотрела в иллюминатор:
– Забавно. Город, в котором Рубенс – почти как местный святой, а Брейгель – тень.
Алексей усмехнулся:
– Тени иногда живут дольше святых.
* * *
Внутри всё было по-фламандски деловито: немного стекла, немного бетона, ни пафоса. Эта миниатюрность располагала – словно тебя встречает не международный узел, а вежливый частный клуб с расписанием вылетов. Они прошли контроль молча, слушая как объявляют рейсы TUI – здесь базируется именно она, не громкие флаги, а ритм привычной провинциальной точности.
– Люблю такие аэропорты, – сказала Ева на полуслове, когда автоматическая дверь выпустила их в тёплый воздух. – Никакой демонстрации величия. Только функциональность, почти этическая.
– Скромность – лучшая маскировка, – ответил Алексей. – Особенно для городов, где много памяти.
– Нравится? – спросила Ева, подставляя лицо мягкому теплу улицы.
– Приятно, когда город не кричит о себе с порога, – ответил Алексей. – Значит, у него есть чем заняться помимо самолюбования.
– Тебе пойдёт Антверпен, – сказала она. – Он любит людей, которые смотрят дольше, чем того требует вежливость.
* * *
Такси – серебристый «Мерседес» – мягко забрало их у кромки тротуара. За стеклом пошёл фламандский ритм: низкие кирпичные дома, аккуратные бульвары, дворы с яблонями, свет в окнах ещё дневной, но уже плотный. Чем ближе к центру – тем теснее камень, тем богаче тень. Внезапный просвет Meir с витринами. Поворот к Groenplaats. И – вертикаль собора, разрезающая небо, как стрела напоминания.
– Где остановимся? – спросила Ева.
– Hotel Julien, – ответил Алексей. – Тихий отель в двух старых домах. Во дворе – камень, наверху – терраса с видом на собор. Бар тоже приличный.
– Ты удивляешь меня всё чаще, – усмехнулась она. – С таким примерным выбором тебе бы преподавать умеренность.
Julien прятался в двух шагах от собора, в глубине узкой улицы. Каменная арка, стеклянная дверь, прохладный холл – будто зашёл в частный дом, где в камине хрустит огонь, а на столике уже лежат утренние газеты. На стене – маленькая эмблема, обещающая бар и ту самую крышу, куда по вечерам поднимаются смотреть, как шпиль закрашивает закат.
* * *
– Два номера, – сказал Алексей на стойке, как сообщают о принципе.
Ева скосила взгляд – коротко и одобрительно: «спасибо за границы». Администратор, как положено, понял всё буквально, а они – ровно настолько, насколько нужно в первый день.
Номера оказались рядом. Её – светлый, с высоким потолком, обнажённой кирпичной стеной и узким балконом в зелень. Его – с деревянными балками и каминной нишей, где теперь стояла свеча, но тень от неё поднималась уже как история. Оба – с тем самым соседским видом из окна: на шершавые крыши, которые сушат воздух.
Ева бросила на кресло лёгкое пальто и подошла к столу: на кожаной папке – эмблема отеля, рядом маленькая карточка с обещанием вечернего бокала на террасе с видом на шпиль.
– Двадцать минут на сборы и вниз, – сказала Ева. – У нас есть город и несколько часов до архива.
– Прекрасно, – ответил Алексей. – Я как раз хотел познакомиться со здешним воздухом лично.
Они вышли на улицу, где камень тёплый, а воздух пахнет сразу всем: кофе, бельгийским пивом и морем, которого не видно. Улицы подводили к Vrijdagmarkt – Пятничному рынку, где дом-типография Плантена стоит так, будто и не сдвигался веками: фасад с широкими окнами, зелёные ставни, плотная древесина дверей, тень, которую любят печати. На табличке – Museum Plantin-Moretus. Но для них это был не музей. Для них – ворота туда, где бумага и чернила умеют хранить то, что живое забывает.
– Вот и он, – тихо сказала Ева. – Единственный в мире музей, сам по себе внесённый в список ЮНЕСКО, и при этом оставшийся домом и мастерской. Когда-то здесь жили, печатали, ссорились, смеялись. Теперь – мы стараемся слышать, как это звучало.
Они прошли вдоль фасада. В просвете – двор, выложенный кирпичом, с ладанной прохладой дерева. Где-то далее – второй внутренний двор, и дальше – комнаты, где сохранились две старейшие печатные прессы в мире: деревянные, как два свидетеля, у которых не возьмёшь интервью, но от которых невозможно отвести взгляд. Здесь же – литеры, матрицы, кассы; комнаты, где тип делали руками, а шрифт звучал как ремесло.
– Любопытно, – сказал Алексей. – Место, где печатали Библии и счета, подходит и для любовной переписки, и для показаний под присягой.
– Здесь печатали мир, – отозвалась Ева. – Просто по частям.
– А мы будем собирать его назад, – резюмировал он. – По тем же частям.
Их прогулка сделала крюк через Vlaeykensgang – узкий проход XVI века между Hoogstraat и Oude Koornmarkt. В таких местах время делает шаг в сторону, а звук шага становится заметным. Арки шепчут; окна глядят как полузакрытые глаза. Здесь хорошо произносить короткие фразы – они не теряются, а возвращаются в ладонь, как монеты.
– Скажи, – спросила Ева, – ты часто смеёшься?
– Я – профессионал по части сдержанности, – ответил он. – Но у меня есть чувство юмора. Оно платит налоги и носит ремень безопасности.
– Проверим, – кивнула она. – У нас ведь впереди архив, а там без иронии – как без перчаток.
– С иронией осторожней, – заметил Алексей. – Она как кислота. Снимает известь с истины, но и камень подтачивает.
– Ты сейчас про камень или про себя? – Ева слегка повернула голову.
– Про нас, – сказал он. – Мы же два человека, решивших играть в археологию смыслов. Тут нельзя без защиты.
* * *
Сообщение от Браунса пришло вовремя: короткая строка с номером Gert van der Meer и сухой надписью «Reading room by appointment». Ева посмотрела на часы – время позволяло: если до четырёх они успеют, им откроют.
Она набрала номер и заговорила по-голландски, мягко и корректно, как звонят в дом, где ценят порядок.
– Meneer Van der Meer? Мы от мистера Браунса. Да, двое. Да, по записи. Мы ищем косвенные следы Йонгелинка: счета, упоминания, что угодно. – Пауза. – Понимаю: здесь ничто не обещано заранее. Мы умеем читать медленно.
Положив трубку, Ева чуть улыбнулась:
– Он не любит прилагательные и слишком ценит время. Сказал: «15:30. Читальный зал. Чёрный вход. Без сумок». Будем, как стекло.
Алексей замер, когда услышал, как она свободно переходит на голландский.
– Вот этого я не ожидал. Откуда?
Ева улыбнулась легко, словно в её ответе скрывался небольшой секрет:
– Картины молчат. А документы требуют голоса. Чтобы расспросить шестнадцатый век, приходится говорить на его языке.
– Значит, ты решила обходиться без переводчиков.
– Переводчики хороши для газет, – сказала она легко. – Но не для тайн.
– Я-то думал, ты искусствовед. А выходит – разведчица.
Она посмотрела на него быстро и чуть насмешливо:
– Не разведчица, Алексей. Просто иногда секреты охотнее доверяются тому, кто говорит с ними без посредников.
– Тогда мне остаётся только молчать и слушать, как ты расспрашиваешь XVI век.
– Знаешь, порой и двадцать первый даёт не меньше поводов для расспросов.
Алексей посмотрел на нее долгим взглядом и перевел тему на насущное:
– «Чёрный вход» значит… Звучит роднее.
– Не говори так при архивисте, – мягко оборвала Ева.
– Они обижаются, когда их путают с заговорщиками.
– Справедливо, – кивнул он. – Они – нотариусы прошлого.
* * *
Они успели вернуться в Julien на короткий глоток воды. Ева сменила туфли на более мягкие – архивам не нравятся каблуки, которые разговаривают. Алексей снял часы и убрал телефон: в местах, где бумага старше твоего рода, хорошо быть проще.
Путь к Vrijdagmarkt они проделали почти молча – чтобы не расплескать ту самую сосредоточенность, которая нужна перед дверью. У боковой стены, там, где туристы уже не поднимают взгляд, обнаружилась небольшая табличка: Leeszaal / Reading Room. Ни вензелей, ни бронзы. Только дверь, чуть темнее стены, и звонок без темперамента. Часы визитов – как сдержанное обещание: с 9:30 до 12:30 и с 13:30 до 16:30, по будням и по договорённости.
– Мы рано, – шепнула Ева. – Хороший знак. Архивисты ценят тех, кто приходит до паузы.
– А я ценю тех, кто открывает с первого стука, – отозвался Алексей, нажав уже дважды на кнопку звонка.
Внутри все же что-то щёлкнуло – не «да» и не «нет», а признание, что время здесь у всех своё. Дверь приоткрылась на палец, потом на ладонь. Из темноты выглянул профиль в очках: человек, которого мог бы придумать тот самый дом – сухощавый, аккуратный, без склонности к украшениям.
– Van der Meer, – сказал он, не спрашивая, кто они. – Без сумок. Паспорт, запись… да. Следуйте за мной и не трогайте ничего, что не принадлежит вашему столу.
– Нас двое, – сказала Ева. – Но будем вести себя как один аккуратный читатель.
– Вот и прекрасно, – отозвался он. – Прошу. И еще – больше не зовите меня Van der Meer, я – мсье Питерс.
Они переглянулись коротко – как перед шагом на сцену. И вошли, оставив за спиной шум улицы, туристические шаги и сентябрьское солнце. Впереди начинался воздух бумаги и чернил – тот, где города раскрывают не фасады, а счета. Где Йонгелинк, возможно, существовал пока лишь как строка. И где «Торжество» – если оно и правда когда-то было написано – могло впервые произнести своё беззвучное «да».
2
Их впустили не «с улицы». Накануне Дэвид Браунс отправил заведующему короткую записку – почти телеграф: «По моей рекомендации. Доступ к материалам Йонгелинка. Тема – поздний круг Брейгеля. Просьба содействовать». Этого оказалось достаточно: тяжёлая дверь читального зала приоткрылась ровно настолько, чтобы шагнуть внутрь – в ту особую тишину, где слышно, как стареет бумага.
Зал встретил холодком известки и тёплым, сухим запахом свинцовой краски. Высокие окна, нарезанные на узкие прямоугольники, рубили свет на длинные столы с зелёным сукном; слева – песочницы для поднятия влаги, рядом – мягкие серые «змейки»-утяжелители для страниц (те самые, которыми во всём цивилизованном мире приучают придавливать развороты; кожей и бархатом здесь не рискуют) и деревянные пюпитры-«подушки» под фолианты. Где-то в глубине негромко дышала вентиляция; изредка щёлкали створки шкафов, будто кто-то невидимый переворачивал страницу. В витрине на стене – план старого дома «De Gulden Passer» («Золотой циркуль»), перечёркнутый строительными фазами: типография как организм с несколькими жизнями.
– Только карандаш, – предупредил мсье Питерс: худой, гладко выбритый, с бельгийской обстоятельностью в каждом движении. – Ручек в зале быть не должно. Перчатки не нужны: чистые руки лучше для бумаги, чем латекс. Фолианты – только на подушки. Закладки – наши, не ваши. Фотографировать – нельзя. Выписки – сколько угодно. Вопросы – ко мне.
Алексей кивнул; Ева – тоже. Никаких обид: так разговаривают места, которые умеют хранить.
Их рассадили рядом. Алексею выдали тонкую картонную карту читателя; Еве – прозрачную линейку-«окно» для узких колонок. Она разложила на столе свой ритуальный набор: лупа на шарнирной ножке, крошечная кисточка, мягкая салфетка, остро отточенный «шестигранник» и блокнот с удивительно дисциплинированным почерком – ни одной «пьяной» буквы.
– План простой, – сказала Ева, когда Питерс ушёл за первыми коробами. – Не «миф → вдохновение», а «техника → следы». Сначала каталоги Кока и Йонгелинка: что, когда, кому и как шло – особенно в связке «рисунок → гравюра». Потом товарные ведомости. И в конце – маргиналии: Йонгелинк любил поля.
– А мы – его поля, – усмехнулся Алексей. – Приятно познакомиться.
– И ключевые слова, – добавила Ева. – Не «романтизм». «tabula», «imago», «effigies» – вещи. И ещё – возможно «caecus», «ductor», «templum», «arx», «epiphania», «arcanum», «symbolum». Если где-то рядом зашуршит хоть одно из этих слов – мы на тропе.
Появился Питерс, толкая тележку с тремя коробами и парой тугих фолиантов, которые будто умели сами правильно лечь на стол.
Короб первый – «товарные ведомости»
Толстый реестр – сухие таблицы отгрузок. Колонки латиницей: tabula, imago, effigies; справа – цифры, иногда голландские пометки: «verk». («продано»), «afg». («отправлено»). Десятки повторов: «Пастухи», «Месяцы», «Крестный путь». Маргиналий почти нет – только арифметика карандашом, судя по черноте грифеля – поздно-семнадцатая. Бумага хрустит как снег.
– «Бухгалтерия дыхания искусства», – сказала Ева, перескакивая нумерацию. – Зато виден пульс: всё идёт партиями.
Короб второй – «каталоги проектов»
Уже не отгрузки, а списки оригинальных рисунков, уходивших в гравюру. Заголовки: Designa P. Bruegel; встречаются «Притчи», «Пословицы», «Аллегории времён года». На полях – чужие руки: короткие голландские пометы («gedruckt», «vercopen»). Здесь впервые мелькнуло «caecus» – «слепой», но без адреса и привязки.
– Это уже ближе к мифологии, – тихо сказала Ева. – Тот слой, где мотивы начинают подсвечиваться.
– Кстати, освежи мне: кто тут главный дирижёр? – спросил Алексей. – Чтобы я не перепутал роли в этой типографской капелле.
– Иероним Кок – капитан медных досок: издатель и рисковый предприниматель «Aux Quatre Vents» («У четырёх ветров») в Антверпене; именно вокруг него и через его лавку расходились Брейгели – и свои, и сведённые в гравюру. Филипс Галле – гравёр и издатель, близкий круг, работал и как самостоятельный печатник. А Йонгелинк – не мастер печати, а тот, кто шептал деньгам куда течь: богатый антверпенский банкир/коллекционер, на чьих стенах умирали от щедрости «Месяцы» Брейгеля. У каждого своя функция в этой экосистеме.
– То есть если бы они были оркестром, – улыбнулся Алексей, – Кок – дирижёр-продюсер, Галле – первый медный, Йонгелинк – попечитель, который купил весь зал.
– Примерно так. И да, у всех были нервы – рынок гравюры был мясорубкой для талантов.
Они работали в такте. Час – и ещё час.
– Ты читаешь по-латински, – заметила она, проверяя колонку номер за номером.
– Читаю, – подтвердил Алексей. – Но у тебя, чувствую, будет глаз быстрее.
– Не глаз, рутина. – Она чуть склонилась над страницей. – Смотри: вот «Catalogus picturarum et imaginum» – перечень изображений, участвовавших в торговле с Коком. Рядом – «explicatio» – иногда добавляют пояснение. Идём по алфавиту названий? Нет, это глупо. В шестнадцатом веке алфавит никто не любил. Идём по темам.
Они разделили фронт. Ева ловила глазами латино-голландские связки, Алексей – цитаты на полях.
Питерс приносил, уносил; Ева прочёсывала колонки линейкой-«окном»; Алексей все также пытался ловить краткие пометки.
– Перерыв? – предложил он, когда в висках появилась лёгкая дрожь от прицельного фокуса.
– Пять минут воды, – кивнула Ева. – Кофе из автомата – способ поссориться с желудком. Вернёмся – и я хочу добить третий.
Короб третий – «описи Галле и Йонгелинка»
Здесь линии начали сходиться. В третьем коробе у Евы поехало – нет, не «счастливое» совпадение, а закономерность: опись листов для Филипса Галле и отдельный раздел «Designa P. Bruegel» – проекты Брейгеля, переданные в гравюру. На полях – чужая рука, не из типографии: чернила более сухие, почерк моложе.
В узкой колонке заголовков Ева остановила линейку и легонько постучала ногтем по строчке:
– Смотри. «Tabula caecorum ductorum». – Она подвинула линейку Алексею. – Буквально – «таблица ведущих слепцов». Это не бухгалтерская «таблица». Тут tabula = «изображение/доска». Похоже на заглавие мотивной сцены.
Алексей наклонился:
– Дальше – «prope Bruxellas»… «Рядом с Брюсселем».
– Что логично, – сказала Ева, и голос у неё чуть потеплел. – Но больше меня интересует не строка, а поле.
На правом поле, ближе к загибу, чернел крошечный занос чернил – как будто кто-то, нащупав нужную строку, опёрся пером именно здесь. Ниже – чисто. Ева попросила у Питерса боковой свет.
Лупа щёлкнула на шарнире, блеснула; и на загнутом краю страницы, там, где обычно её подрезают, проступило нечто вроде маленькой цветочной розетки – шесть лепестков, процарапанных остриём. Такое печатники делают машинально – «для руки», как музыкант стучит такт.
– Флёрон, – едва слышно сказала Ева. – Типографский цветок. И рядом… – она вдохнула, – едва видный ряд микроточек. Баловство булавкой? – Она наклонила лист к косому свету. – Нет. Смотри на просвет.
Алексей встал и придвинулся. Если держать лист под углом, микропроколы складывались в строчку – не цветок и не знак. Это были буквы. Без чернил, без графита – голая перфорация.
V E R I T A S.
Они не произнесли его вслух. Просто стояли, будто воздуха на двоих стало меньше, и каждый пытался дышать тишиной. Ева первой улыбнулась – не победно, а благодарно.
– Идём по этой же колонке, – уже деловым тоном сказала она. – Такие «цветки» ставят у «своей» строки. У какой руки – у такой и шифр.
Сместились на полсантиметра вниз – и правда: на поле, крошечным сухим курсивом – «cap. S. Annae, Pede». И короткая отметка: «vid». – «смотри».
– «Часовня Святой Анны, Педе», – прочитал Алексей. – «Педе» – это…
– Sint-Anna-Pede, – кивнула Ева. – Маленькая деревня под Брюсселем. И – внимание – именно её часовня на фоне у «Притчи о слепцах». Это не «фантазия», а реальный пейзаж – церковь идентифицирована по силуэту и линии ландшафта.
Она расправила плечи, как дирижёр перед вступлением.
– Питерс, – обратилась почти в пустоту (но тот, конечно, был рядом), – можно ли посмотреть альбом с репродукцией «Притчи о слепцах»? Любой приличный репринт.
– Есть, – коротко кивнул Питерс. – Минуту.
Они остались вдвоём, и Алексей позволил себе расслабить плечи.
– Ты вела нас, – сказал он просто.
– Я лишь слышала, как бумага шепчет, – Ева усмехнулась. – Флёрон, «vid»., проколы – это их способы подмигивать друг другу. Мы просто встали на линию.
– Линия у нас из трёх камней, – он загибал пальцы. – «слепцы», «Анна», «veritas». В юр… в моей логике это называется «достаточность совокупности».
– В нашей – «наконец-то щупаемое», – ответила она.
Питерс вернулся с альбомом. Меловая бумага отдавала прохладой. На развороте – шесть фигур с тростями, и первый уже падает в канаву; следом, как ноты по диагонали, полетят остальные.
Ева не читала лекцию – раскладывала инструменты:
– 1568 год. Почти финал: через год он умрёт. Сюжет – евангельский: «Если слепой ведёт слепого, оба упадут в яму». У Брейгеля – шесть, и каждый слеп по-своему: бельмо, атрофия, травма века – медицинская точность для XVI века поражает. Теперь фон: это не «типовой храм», а часовня Святой Анны в Sint-Anna-Pede – опознана по силуэту, колокольне и тропинке у подножья. Деревушка Синт-Анна-Педе расположена неподалёку от Брюсселя, среди холмов Пайоттеленда – там Брейгель, по некоторым данным, делал зарисовки натуры. Он не любил абстракцию – писал то, что видел. Но почему именно церковь св. Анны была включена в притчу о слепцах? Почему Анна? Святая Анна – это мать Девы Марии, а её имя в переводе с иврита означает «благодать». Однако в контексте XVI века мог быть иной подтекст. Возможно, Брейгель выбрал церковь Святой Анны как символ старой католической веры (церкви) на перепутье. Некоторые историки читают картину «Слепые» двояко: то ли как критику слепого фанатизма и упадка церкви (шестеро слепцов идут на фоне храма, не замечая его), то ли наоборот как предостережение против слепого следования еретическим проповедникам вместо церкви. Брейгель оставил это двусмысленным, но сам выбор реального места наводит на мысль: в этой церкви или её окрестностях может скрываться что-то. Возможно, художник указал точное место, связанное с тайником, – например, церковь, где можно найти послание. Кроме того, Святая Анна в христианской традиции почитается как бабушка Иисуса, связующее звено между Ветхим и Новым Заветами. Влияние её культа в Средние века было велико. Не исключено, что Брейгель заложил тонкий знак: искать «истину» следует, обратившись к матери Марии, то есть к истокам веры, возможно, скрытым вне официальной церкви. Он оставляет двусмысленность – это его манера.
Она провела ногтем вдоль зелёной полосы-тропы:
– Для нас важнее другое. В архиве рядом с «таблицей слепцов» – «S. Annae, Pede» и перфорация «veritas». Это не просто «времена любят порассуждать о вечном». Это приглашение идти в реальность фона. В саму часовню. И смотреть – на колокольню, чердак, корешки старых книг, тайники. В эпоху иконоборчества в башнях прятали вещи постоянно. И ещё. Ты понял, как библиотеки шутят?
– Библиотеки шутят? – удивился он.
– Конечно. Видел флёрон? Шестилепестковая «маргаритка». В переводе с латинского – margarita – «жемчужина». Иногда так печатники подмигивают друг другу: мол, «здесь жемчужина». Мы её сейчас и нашли. Не всю, но первую песчинку.
Питерс, стоявший на расстоянии, сделал вид, что ничего не слышит, но улыбнулся в пустоту – библиотекари всегда слышат, когда о них думают хорошо.
– Никогда бы не подумал. Хорошо, а искать то что? – тихо спросил Алексей.
– Любую записку настоятеля, любую ленту с латинской рукой шестидесятых. Любой мостик на юг – к месту, «где последние праведники стояли до конца». – Она произнесла это уже почти как цитату, но тут же улыбнулась: – Ладно, мечты отложим. Сначала – ноги на землю. План такой: сегодня – выписки, структура ссылок, конспект. Завтра утром – Sint-Anna-Pede.
– А вечером? – он поднял взгляд.
– Вечером – разговор. Есть бар, где виски подают как часть библиографии, – улыбнулась Ева. – Сделаем вид, что продолжаем работать.
– Почти свидание, – рискнул он.
– Почти научный коллоквиум, – парировала она. – Но можно и в сторону кино расползтись.
– Осторожно, – сказал Алексей. – Я способен часами спорить, почему у «Банды Оушена» лучшая драматургия из позднего Голливуда.
– А я – почему Боланьо внутри короче, чем снаружи, – рассмеялась она.
Они попросили отложить нужные тома «на завтра к девяти», ещё час делали выписки – номер, заглавие, поле, где бумага шепчет громче строк. В семь ударили часы. Ева, не поднимая головы, сказала:
– Я завидую этим местам. Они умеют хранить. Люди – хуже.
– Люди чаще пытаются хранить себя, – ответил он. – Самый трудный случай.
– Проверим, на что годимся, – сказала она. – Пойдём.
Питерс поклонился так, будто им аплодировали за вежливый спектакль. Дверь глухо закрылась, и в зале ещё минуту стояла тишина, похожая на бумажный снег: лёгкая, кружевная, бесшумная.
3
Они вышли на улицу – воздух был чуть влажным, сентябрьский, с прохладой, которая держится между кирпичных фасадов дольше, чем на открытых площадях. Небо успело разорвать облака: узкие полосы заката подсвечивали шпиль Собора Богоматери, словно его протыкало бледное пламя. Гул трамваев тянулся по рельсам вдоль Националестраат; где-то ближе к реке слышалась музыка – кто-то играл на саксофоне «Autumn Leaves».
Ева на мгновение задержалась у входа, поправила волосы, и Алексей заметил, что в её глазах – зелёных, но с лёгким янтарным отливом в вечернем свете – было напряжение, похожее на усталость музыканта после длинного концерта.