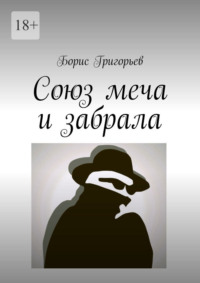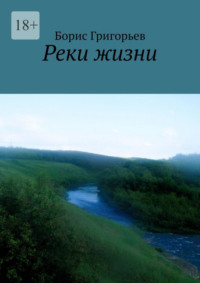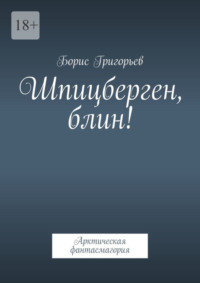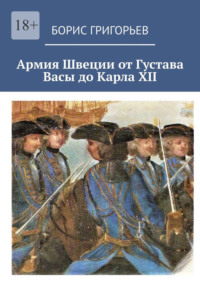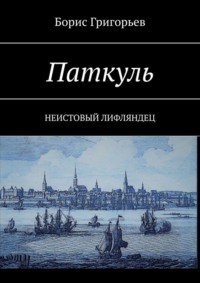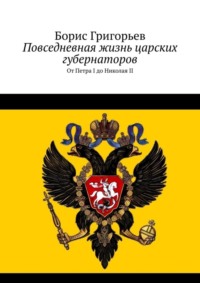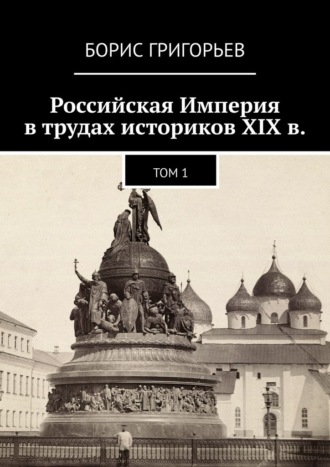
Полная версия
Российская Империя в трудах историков XIX в. Том 1
В Белебеевский уезд проповедники заезжали из Саратовской и Оренбургской губерний – так в первых числах июня 1876 года на тракте по направлению к г. Бугульме разом были замечены 7 человек. Один из них говорил местному мулле, что русский царь напрасно затеял игру с турками, потому что мусульмане восторжествуют. Действовавший в Мензелинске эмиссар, по донесению белебеевского исправника, требовал, чтобы татары вносили денежные пожертвования в пользу Турции для борьбы с Россией.
Когда одного такого проповедника в турецкой одежде и по имени Мустафа-Али задержали в Бирском уезде, то при нём нашли 200 рублей, из которых 11 рублей были продырявленными серебряными монетами, снятых местными женщинами со своих головных украшений. На допросе Мустафа-Али о цели своего приезда в Башкирию не сознался, заявив, что деньги собирал для себя, чтобы поторговать в России и вернуться домой в Турцию богатым человеком.
Павел Львович пишет, что подобные «купцы» пользовались поддержкой местных ахунов31 и мулл. На ярмарке в дер. Калмыковой Бирского уезда местный ахун ходил по торговым рядам и, показывая какую-то бумагу, открыто собирал деньги с башкир и татар. Один участник ярмарки сказал, что деньги ахун собирал «на государство». Ходили слухи, что у этого ахуна Мустафа-Али оставил обрывки зелёной материи от знамени Магомета, чтобы при случае развернуть их и объявить священную войну (джихад).
Документы и письма из Турции появились у многих башкир. Так помощник волостного старшины дер. Байгузино Бирского уезда собрал сход и зачитал землякам воззвание якобы от турецкого правительства. Такие воззвания читались в школах и мечетях других поселений и, по мнению Юдина, вызывали у слушателей сочувственные высказывания. В одном кабаке один башкирец говорил, что скоро придёт время вешать русских. В Бирском уезде было распространено убеждение, что аллах прогневался на них: оттого и коран всё темнеет и темнеет, а чтобы получить от аллаха благоволение, следует помогать Турции. Татары и башкиры, в обычной жизни тихие и смирные, стали вдруг задиристыми и начали показывать своё превосходство над русскими, давая им понять, что скоро им придёт конец.
Среди местного мусульманского населения циркулировали слухи о восстановлении Казанского ханства и о превращении татар в господствующую над русскими нацию. Это должно было произойти во время праздника Курбан-байрама 16 декабря 1876 года, когда в Казань приедет знатный турецкий паша. И этого события ждали не только мусульмане, но и чуваши и язычники черемисы, многие из которых хотели пристать к мусульманскому мятежу.
– Когда придёт турок, деньги станут дешевле, – говорили они.
– Если будет война, я за русских воевать не стану, – говорил один татарин из деревни Ермекеево. – А вот если султан в Казань придёт, я встречу его, и будем бить русских.
– Теперь хорошо бы жениться, – мечтал один башкирец из Стерлитамакского уезда. – Русского богатства скоро будет много.
– Да откуда же ты его возьмёшь? – спросили его.
– Мы только и ждём войны – тогда перережут всех русских, – был ответ.
Эта уверенность была присуща не только безграмотным инородцам. Один мулла из упомянутой уже деревни Байгузино, покупая лошадь у крестьянина Логунова, отказался давать расписку под тем предлогом, что она ему не понадобится, потому что всех русских всё равно скоро вытеснят из Башкирии.
Между тем слухи о мятеже против русских росли и распространялись. На базарах, в лавочках и питейных домах утверждали, что мусульмане готовят оружие, порох и льют пули. Один башкирец не стесняясь говорил крестьянам дер. Зайцево Бирского уезда, что у них «слава Богу, есть большой запас ружей и пороха. Пока солдаты придут на подмогу, мы скоро покончим с русскими». Такие слухи распространялись даже в Уфе перед глазами губернского начальства: говорили, что у муфтия был обыск и нашли у него склад с оружием, но ему удалось бежать32; что восставшие башкиры уже взяли город то ли в Пермской, то ли Оренбургской губернии и что муллы в нескольких селениях снимают с мечетей полумесяцы, что служило якобы условным знаком к началу восстания.
Тревожному состоянию умов способствовали и статьи в некоторых московских и петербургских газетах, в которых содержались сведения о том, что в Казанской, Вятской и Уфимской губерниях софты призывают мусульман к священной войне против русских. Местным властям, пишет Павел Львович, стоило больших усилий, чтобы разоблачать все эти слухи и убеждать простое население в противном. Но, как выразился белебеевский исправник в своём донесении уфимскому губернатору, «турки своё дело сделали». Пока шла два года война с турками, край продолжал оставаться в самом беспокойном состоянии. Положение нормализовалось только с окончанием войны.
Впоследствии, пишет Юдин, более интеллигентные мусульмане говорили, что для антирусского восстания не существовало никакой почвы как по неимению средств, а главным образом потому, что «нигде мусульманам не живётся так вольготно и хорошо, как в России».
Мне почему-то кажется, что в этой последней фразе Павла Львовича содержится скрытая ирония, потому что ничего, кроме лукавства, во мнении этих так называемых интеллигентных мусульман не содержится. И где были эти «интеллигенты», когда в Башкирию и др. области Зауралья, словно к себе домой, приезжали с антирусскими проповедями турецкие эмиссары? Думается, П. Л. Юдин не прошёл бы мимо факта их вмешательства в создавшуюся ситуацию и попыток разъяснить своим «неинтеллигентным» землякам суть дела. А таких фактов и о таких попытках он не сообщает.

Карта Уфимской губернии
Глава 10. Таинственная экспедиция33
Эта история приключилась сразу после русско-турецкой войны, а именно после заключения 19 февраля (3 марта) 1878 года выгодного для России Сан-Стефанского мира. Привыкшая нам гадить Англия при содействии Австро-Венгрии решила пересмотреть условия этого мира и добилась созыва в июне того же года Берлинского конгресса. Во властных верхах Петербурга возникла идея умерить антироссийский пыл англичан и, выбрав наиболее чувствительное их место, надавить на него. Таким местом была зависимость Англии от морской торговли, и в Петербурге решили попытаться эту торговлю если не прекратить, то хотя бы существенно её нарушить и тем самым оказать влияние на позицию Англии на Берлинском конгрессе.
Идея наказать англичан возникла ещё в 1863 году, когда ввиду серьёзных осложнений с англичанами в Америку была послана летучая эскадра34 адмирала С. С. Лесовского (1817—1884) с задачей разработать план крейсерской войны с ними в Атлантике. Степан Степанович немало потрудился над этим планом, и ещё тогда он указал на ряд сложных моментов, затруднявших его выполнение. Тогда план остался лишь на бумаге, и применить его в реальности не пришлось.

Русская эскадра в Нью-Йорке, 1863 год
К концу 1876 года, в разгар войны с турками, отношения наши с Англией, по словам Бутковского, стали носить сомнительный характер, в частности возник конфликт с англичанами у Смирны, куда зашла наша эскадра под командование адмирала Г. И. Бутакова (1820—1882). Тогда Григорию Ивановичу чудом удалось вырваться из блокады, устроенной ему английской эскадрой, и напряжение спало35. Англичане могли устроить Бутакову засаду у Гибралтара, но этого не произошло.
В это время наш посол в США Н. П. Шишкин (1827—1902) получил из Петербурга запрос, не остался ли в архивах посольства план С. С. Лесовского (!?). Николай Павлович, что называется, стал «чесать репу», не зная, как приступить к выполнению запроса. К его счастью в это время на Филадельфийской выставке оказался капитан 1 ранга и адъютант в. к. Константина Николаевича Леонид Павлович Семечкин (1830—1889), бывший флаг-офицер Лесовского. Леонид Павлович, специалист по международному морскому праву, хорошо помнил события 1863 года, он поработал некоторое время с находившимися под рукой документами, пополнил их своими воспоминаниями и составил подробную записку о возможной войне на море с Англией.
В записке он высказал мысль, что Россия могла бы заказать у США несколько крейсеров, там же вооружить и обеспечить их экипажами. При этом США не нарушил бы свой режим нейтралитета. Записка получила одобрение высших властей, но к декабрю 1876 года недоразумения с Англией несколько улеглись, записка Семечкина успешно улеглась под сукном, а эскадре Бутакова был отдан приказ к весне 1877 года вернуться в Россию. Русская армия перешла через Дунай, взяла Плевну и скоро к немалой зависти Лондона очутилась под стенами Константинополя. И тогда европейская, читай английская, дипломатия решила теперь дать войну России на бумаге Сан-Стефанского мира.
Как только в Петербурге стало ясно, что требования Англии по пересмотру условий Сан-Стефанского мира были для России невыполнимы и что своей бульдожьей хватки джентльмены не ослабят, опять вспомнили о плане Лесовского-Семечкина, чтобы с помощью крейсерской войны заставить Англию занять на Берлинском конгрессе (июнь-июль 1878 года) более благоприятную для нас позицию.
Император Александр II создал специальную комиссию, пригласил в неё Семечкина, началось обсуждение вопроса, как приступить к выполнению задуманного. Как всегда, финансы России пели романсы, и это была главная проблема. Министр финансов М. Х. Рейтерн (1820—1890) «размахнулся» поначалу аж на 20 крейсеров, потом, подумав, снизил цифру до 12. Международно-правовые вопросы также вызвали у членов комиссии жаркие прения: пойдут ли США на выполнение русского заказа и выпустят ли они эти крейсера из своих портов.
Но желание дать англичанам тычка превозмогло все возражения, и проект представили на рассмотрение императора. Докладывал лично Семечкин. Государь согласился со всеми его доводами и дал указание начать в секретной обстановке подготовку к выполнению плана, назначив главным начальником сей таинственной экспедиции Леонида Павловича. Правда, финансы позволяли ограничиться 3—4 крейсерами – на большее у Михаила Христофоровича, когда дело перешло в практическую плоскость, денег не хватало.

Лесовский Степан Степанович, прозванный матросами «дядька Степан»
В Кронштадт полетела телеграмма на имя главного командира порта адмирала П. В. Козакевича (1814—1887) и директора инспекторского департамента вице-адмирала В. Ф. Таубе (1817—1880) с указанием начать вербовку экипажей на будущие крейсера, а морской министр С. С. Лесовский36 назначил на них капитанов: капитан-лейтенантов Гриппенберга, Авелана, Алексеева и Ломена. Козакевич должен был как можно быстрее набрать для экспедиции 60 офицеров и 600 матросов и окружить свою деятельность, «таким мраком, чтоб никто не мог догадаться», о чём идёт речь.
Начальствовать отрядом должен был Казимир Казимирович Гриппенберг (1836—1908), финский швед, а в США он должен был подчиняться Семечкину. Навербовать нужное число людей Гриппенбергу не составило труда: «таинственный мрак» и хорошие материальные условия привлекли больше желающих, чем требовалось. Через несколько часов список участников экспедиции был уже полон, и Казимиру Казимировичу пришлось отбиваться от новых добровольцев. Офицеры получили подъёмные в размере от 400 до 800 рублей, и через день 4 экипажа будущих крейсеров были укомплектованы.
Через 2 дня отряд по льду перебрался из Кронштадта на ораниенбаумский берег, в Ораниенбауме погрузился на поезд и, минуя Петербург, прибыл в т. н. Балтийский порт, т. е. морской порт Петербурга в Невской губе. На следующий день в порт прибыл зафрахтованный в Германии пароход «Цимбрия» («Cimbria») и после погрузки на него почти 700 человек 1 апреля 1878 года вышел в море курсом, который был известен только Гриппенбергу и то только после того, как он уже в море вскрыл секретный пакет. Гриппенберг с большим трудом расписал членов своей экспедиции по несуществующим должностям лайнера, поскольку ни один пароход мира никогда не мог вместить столько буфетчиков, столяров, садовников (!), поваров, хлебопёков и пр. Согласно полученной инструкции, «Цимбрия» должен был обогнуть Англию с севера и прибыть в небольшой американский порт Саутвест-харбор (South-West-harbour), он же Юго-западная гавань, расположенный на острове Маунт-Дезерт, штат Мэн, с населением не более 500—600 человек. Офицерский состав экспедиции, тоже узнав, наконец, о её цели, с большим энтузиазмом восприняли свои будущие «пиратские» обязанности и на все лады обсуждали историю винтового шлюпа «Алабама»37.
Между тем в России, ввиду сочувствия общества к идее крейсерских рейдов38 против Англии, был объявлен целевой сбор средств на покупку крейсеров. Правда, пишет автор статьи, собранные пожертвования были использованы не для закупки крейсеров в США, а для закупки 4-х крейсеров («Россия», «Москва», «Нижний Новгород» и «Петербург») в других местах.
Между тем для выполнения задуманного плана мало было построить военные суда и снабдить их вооружением и экипажами: нужно было снабдить каждый рейдер морскими картами с указанием конкретных районов крейсирования, мест встречи с другими крейсерами, получения провизии и топлива и, наконец, маршрутов и портов, в которые следовало бы отводить захваченные призы.
Эту гигантскую работу в течение 10 дней выполнил со своими помощниками Семечкин. Результатом его работы явилась карта, на которой были указаны а) традиционные пути торгового мореплавания в Атлантическом океане, б) интенсивность прохода судов по этим маршрутам, в) пункты пересечения этих путей с указанием вероятности найти в них желаемые призы, г) места снабжения рейдеров провиантом и топливом и д) 35 убежищ, в которых рейдеры могли бы укрываться, заниматься ремонтными работами, менять экипажи и т. п.
Обо всём этом Семечкин вновь доложил императору Александру II и, получив его одобрение и благословение, отправился в США. В это же время Гриппенберг телеграфировал о своём благополучном прибытии в Саутвест-харбор и запросил дальнейших инструкций. Через 2 дня, снабжённый инструкциями, полномочиями и кредитивами, Леонид Павлович уехал из Петербурга так внезапно, что бывшие в то время у него гости ничего не заподозрили. Он прибыл в Париж, тотчас проехал в Гавр, взял там билеты на пароход общества «Трансатлантик» и отплыл в Нью-Йорк. Когда пароход отплыл из Гавра примерно на расстояние 60 миль, американский лоцман передал на борт последние номера газеты «Нью-Йорк Геральд», и пассажирам парохода тотчас бросился в глаза заголовок: «Русское круизное судно „Цимбрия“».
…Появление «Цимбрии» на рейде Южно-западной гавани 16 апреля вызвало необыкновенный ажиотаж её жителей – они все высыпали на набережную и с любопытством разглядывали огромный лайнер, каковых они не наблюдали за всю историю городка. Начальник таможенного пункта подплыл к «Цимбрии» на шлюпке и, увидев большое количество матросов на палубе, спросил о причинах их прибытия.
– Мы – эмигранты из России и рассчитываем найти себе приют в гостеприимной Америке, – услышал он в ответ.
Таможенник проверил документы и, найдя их в порядке, попросил «эмигрантов» не сходить на берег, пока он не получит распоряжения от своих начальников. Ждать пришлось недолго, и «эмигранты» могли свободно гулять по городку. Им, правда, запретили свозить на берег алкоголь и табак. Капитан Гриппенберг пошёл на почту отбить телеграмму в Петербург и тут он встретил неожиданные затруднения. Служащие телеграфа не могли понять, какой тариф следовало применить к тексту его телеграммы: они привыкли использовать его по отношению к буквам и словам, а тут была сплошная цифирь. Шифровку переслал в морское министерство, и тут жителям городка стало более-менее понятно, что за эмигранты прибыли по их душу: это были военные, что подтвердилось также единообразием одежды русских.
Вскоре рядом с «Цимбрией» бросила якорь американская военная шхуна для наблюдения за действиями военных. Но не только: несколько офицеров поднялись на борт лайнера, чтобы произвести дознание и осмотр судна. Капитан «Цимбрии» Баденхаузен показал необходимые документы, и американцы убедились, что на её борту находились представители исключительно мирных профессий. При этом они не обратили никакого внимания на найденные морские палаши и с удовольствием прошли в кают-компанию на обильный и вкусный завтрак. Комедия была мастерски сыграна с обеих сторон, и комиссия после завтрака удалилась, пожелав русским успеха в их предприятии. Через несколько дней шхуна снялась с якоря и уплыла.
А досужая американская пресса стала с большими подробностями преподавать своим читателям лекции об истинных целях русских «эмигрантов» – организации крейсерских рейдов. Мрак неизвестности стал рассеиваться, и через 4 дня Европа и Америка узнали, что русские что-то страшное задумали против Англии. Положение Гриппеберга и его команды стало, мягко говоря, довольно щекотливым, и, не получив из Петербурга и от Семечкина никаких инструкций о дальнейших действиях, один из его офицеров отправился добывать инструкции в Нью-Йорк и Вашингтон. А через 10 дней пришла депеша от Семечкина, приглашающая Гриппенберга и Баденхаузена для осмотра закупаемого крейсера.
Семечкин прибыл в Нью-Йорк с женой и тремя помощниками – Кутейниковым, Родионовым и Хотинским. Он первым делом отослал депеши в Петербург и Гриппенбергу, а затем, оставив помощников в гостинице с обязательством строго соблюдать конспирацию, отправился в Вашингтон, чтобы посвятить посла Шишкина в обстоятельства дела. И ещё: перед убытием из Нью-Йорка он отправил ещё одну телеграмму в Филадельфию своему хорошему знакомому банкиру Баркеру, чтобы тот навестил его в поезде по пути в Вашингтон.
Баркер нашёл «кэптена Семетшина» в вагоне и на вопрос Леонида Павловича, как дела, ответил, что дело в шляпе. Он уже нашёл подходящее судно, завёл о его покупке предварительные переговоры и просил поторопиться, потому что на судно положили глаз англичане и могут перебить сделку. Под стук колёс договорились действовать, и Баркер вышел из вагона, сел в поезд, идущий в Филадельфию, а Семечкин продолжил своё путешествие в Вашингтон.
Шишкин встретил Семечкина довольно сухо: он уже устал отбиваться от Госдепа и журналистов, не зная, что следовало им отвечать, а когда Леонид Павлович посвятил его в подробности, то и после этого не выразил своего восторга, тем более что моряк поставил условием в этом щекотливом деле свою инициативу. Подчиняться какому-то каперангу для маститого дипломата было не с руки. Отрыжки местничества. Но в общем договорились, тем более что инструкции из Петербурга не оставляли дипломату большого простора. Николай Павлович на всякий случай решил кардинально отделаться от наседавших на него госдеповцев и журналистов и уехал на отдых на Ниагару, вслед за ним посольство покинули и другие дипломаты.
Покончив с инструктажем Шишкина, Семечкин выехал в Филадельфию и стал ждать прибытия туда своих помощников и Гриппенберга с Баденхаузеном. Созданная на лету комиссия выявила, что подобранное Баркером судно отвечало всем необходимым условиям, и судостроителю дали задаток. Через 48 часов после появления Семечкина в США русский ВМФ обогатился на один военный корабль, получивший название «Европа», а Гриппенберга поздравили с назначением командиром корабля и поручили ему заняться его оснасткой и вооружением. «Европа» обошлась русской казне в 400 тысяч долларов или 800 тысяч рублей.
А теперь автор статьи решил ознакомить читателей «Исторического вестника»с некоторыми пунктами секретного плана, выработанного в Петербурге Семечкиным в сотрудничестве с другими своими помощниками. Баркер по поручению Семечкина весной 1878 года вошёл в правительство США и получил разрешение организовать пароходство якобы для сообщения между Аляской и Сан-Франциско. Под флаг этого пароходства Баркер, по соглашению с Семечкиным, должен был на получаемые от русских авансы приобретать и оснащать суда, необходимые для будущего крейсерства в океане. При найме на суда капитанов и экипажей – пока американских – Баркер должен был, для отвода всяких подозрений со стороны властей, заключать с ними нотариально заверенные контракты.
Далее Баркеру следовало вывести готовые к плаванию суда в море за пределы действия американских законов и передать их в собственность Л. П. Семечкина. Американские экипажи спускали с мачт флаги США, садились в подставленные суда и уплывали восвояси домой, а их место занимали «русские эмигранты» со своими офицерами и капитанами. Они поднимают флаг России и принимаются за оснащение кораблей военным оборудованием, подвоз которого обеспечивает всё тот же Баркер.
Работа закипела. Дел было невпроворот, но постепенно всё становилось на место и приводилось в нужный порядок. Для тиражирования секретных карт для будущих рейдеров Семечкин вызвал в Нью-Йорк из Саутвест-харбора всех штурманов и засадил их за работу. Для крейсерства в Тихом океане привлекалась ещё эскадра адмирала Э. А. Штакельберга (1847—1909). Администрация экспедиции охватила всё восточное побережье США: сам Семечкин располагался в Нью-Йорке, часть отряда прибыла в Филадельфию, но основная часть отряда всё ещё находилась в Саутвест-харборе. Всё это, конечно, создавало неудобства, мешали американские репортёры, появились шпионы, взявшие аппарата Семечкина в настоящую осаду, наняв весь первый этаж гостиницы, в которой проживали русские.
Выручало то обстоятельство, что Семечкин мог решать многие вопросы, не выходя из гостиницы, поскольку в ней располагался телеграф, а у него в номере находились все необходимые чертежи и документы на переделываемые суда, вёлся специальный журнал, и работали его помощники. Если от судостроителя Крампа приходил, к примеру, вопрос, под каким шпангоутом нужно было располагать то или иное приспособление, корабельный инженер тотчас же садился за выкладки и через небольшой промежуток времени Крамп по телеграфу получал ответ: 15-й или 16-й шпангоуты.
«Европа» с помощью прибывших из Саутвест-харбора офицеров и штурманов быстро превращалась в военный корабль, а когда выяснилось, что одной дневной смены рабочих стало недостаточно, Крамп ввёл ночные смены, и работы стали производиться при электрическом освещении. Корабельный инженер Кутейников поселился на заводе у Крампа и со всем тщанием, под постоянным контролем Семечкина, наблюдал за подготовкой судна. Оно должно было быть готовым к июню – правда, в полуфабрикатном состоянии.
Между тем Англия тоже всполошилась по поводу прибытия отряда Гриппенберга в США, и «Таймс» уже 19 апреля сообщила, что русские будут распределены в качестве экипажей на несколько крейсеров. Позже газета проинформировала читателей о неудачной попытке английского консула посетить «Цимбрию», который, однако, не отчаялся и оборудовал в Саутвест-харборе постоянный наблюдательный пункт. Англичане также узнали, что их военно-морская эскадра под командованием адмирала Кея концентрирует свои суда в Атлантике. 3 мая военный агент (атташе) посольства Великобритании тоже сделал попытку взойти на борт «Цимбрии», но тоже в этом не преуспел. В мае газеты опубликовали сведения о покупке русскими нескольких судов в США. Как бы то ни было, пишет Бутаковский, английская дипломатия несколько призадумалась и сбавила тональность антирусских выпадов в своей политике.
Между тем Семечкин приобрёл ещё два судна – «Азию» и «Африку» – передал их на дооборудование на завод Крампа. Из Саутвест-харбора прибывали всё новые партии офицеров и матросов и включались в работу и на этих судах. На «Цимбрии» к этому времени уже перестали придерживаться конспирации, и судно превратилось в объект паломничества со стороны американцев. Офицеры и матросы, в свою очередь, устремились на берег, и городок окунулся в атмосферу непрерывных пикников, танцевальных вечеров и обедов. Народ прибыл молодой, денег девать было некуда, и скучать было некогда.

Цимбрия – это историческое название Ютландии, полуострова в Северной Европе. Двухмачтовый пароход с таким названием был построен в 1867 году в Гриноке, Шотландия, компанией Caird & Co. для компании HAPAG и использовался, в основном, для перевозки мигрантов за океан.
В сентябре «карнавальный период» закончился, Баденхаузен получил предписание доставить остатки отряда в Филадельфию. Русские покинули «Цимбрию» в связи с окончание 6-месячного срока аренды судна и перебрались сначала в плавучую гостиницу, а потом уже разместились на своих кровных кораблях.
В июле 1878 года завершился Берлинский конгресс, Россия была вынуждена принять поправки к Сан-Стефанскому миру, и «наполеоновский» план рейдерской войны против Англии подвис в воздухе. Спешить было некуда, и переоборудование купленных крейсеров было спокойно закончено к осени 1878 года. Поздней осенью «Европа», «Азия» и «Африка» покинули гостеприимные берега США и стали на зимовку в Копенгагене и Гавре. Четвёртый крейсер «Забияка», выстроенный сугубо по русским чертежам, пришёл в Россию в мае 1879 года.