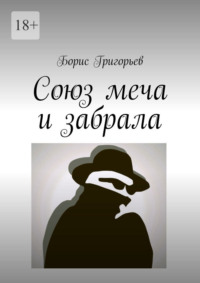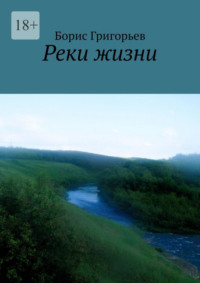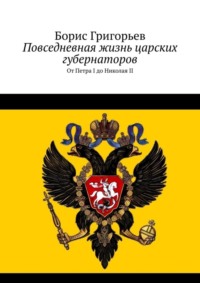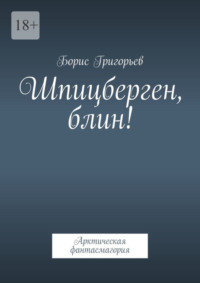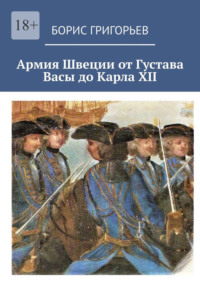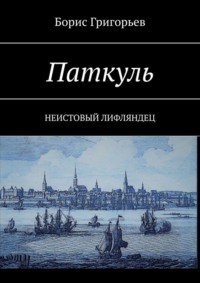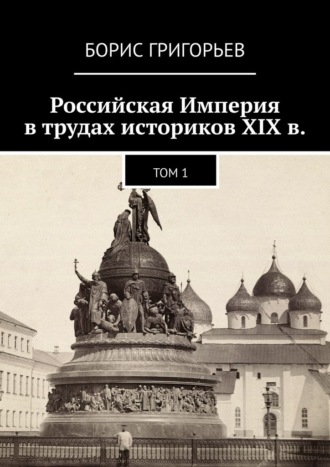
Полная версия
Российская Империя в трудах историков XIX в. Том 1
Сабатье-де-Кастр обратился к русскомй послу в Вене А. К. Разумовскому (1752—1836) с просьбой принять на русскую службу бывшего французского военного моряка. Посол сообщил об этом ходатайстве Екатерине, и её фаворит Платон Александрович Зубов (1767—1822) письмом от 8 апреля 1793 года уведомил командующего Черноморской эскадрой Ф. Ф. Ушакова (1745—1817) о состоявшемся величайшем повелении зачислить Огюста Монтагю капитан-лейтенантом вверенного ему флота.
По прибытии в Россию Монтагю поселился в г. Шклове23, вёл замкнутый образ жизни, никого не принимал и лишь иногда посещал бывшего фаворита Екатерины графа С. Г. Зорича (1745—1799), превратившего Шклов в русский Версаль. Нужно отметить, что Монтагю, подружившись с графом Гаврилой Семёновичем, сумел быстро включиться в работу, установить связь с Конвентом, наладить переписку с князем Мурзи и организовать сбор сведений о русском правительстве с помощью француза Жирара, внедрившегося в канцелярию графа Безбородко. Кроме Жирара у него было ещё несколько помощников среди проживавших в Петербурге французов. Фактически Монтагю выполнял роль резидента разведывательной сети.
Был на связи у Жирара и один русский агент, которого Монтагю в своих отчётах Конвенту называет Mokotaire и который по данным Королькова остался неразоблачённым. И Конвент высоко ценил этого русского, предложив ему французское гражданство, убежище во Франции и должность с окладом 12.000 ливров. Корольков предполагал, что этим агентом был офицер Черноморского флота, поскольку он состоял в переписке с константинопольским агентом Конвента Флоренвилем и регулярно доносил ему о состоянии Черноморского флота. Отметим мимоходом широту взглядов Конвента, проявившуюся в интересе к состоянию флота чужой державы, в то время как самой Республике грозил крах. Это же лицо переписывалось с неким Мозолье, который предложил Робеспьеру сжечь русский флот изобретённым им способом.
Мозолье предлагал поджечь русские корабли с помощью пропитанных серой и просмолённых канатов, которые предварительно нужно было опустить в воду. Монтагю в письме к Конвенту забраковал «изобретение» Мозолье, сославшись на то, что канаты горят неравномерно, а не смоченные водой отрезки его начинают дымить и демаскировать диверсию. Резидент явно использовал на этот счёт мнение агента с псевдонимом «Мокотэр».
Монтагю жаловался на скупость аббата Сабатье, ограничивавшего резидента в расходах. Аббат предлагал ему воспользоваться финансами господаря А. Мурузи, который, однако, ограничивался одними обещаниями. Между тем Сабатье запланировал переместить Жирара из канцелярии Безбородко на Черноморский флот, но от плана этого отказался и оставил Жирара шпионить рядом с Безбородко, вторым членом Коллегии иностранных дел и прикосновенным ко множеству других государственных дел и тайн. Монтагю вполне доверился Жирару и не скрывал от него своих действий.
Дело испортило отсутствие у резидента денег. Не получив от резидента заслуженного материального вознаграждения, Жирар решил разоблачить шпионскую деятельность Монтагю и доложить обо всём русскому правительству. Монтагю поручил Жирару отправиться к Мурузи и передать ему письмо, в котором он подробно описывал действия русского правительства. Резидент сообщал, что Балтийский флот вряд ли решится выйти из проливов и соединится с Черноморским флотом для совместных действий против Франции. Жирар немедленно донёс об этом генерал-прокурору Правительствующего Сената графу А. Н. Самойлову (1744—1814), а само письмо, приложив к записке, передал Безбородко.
9 июня 1794 года уже переехавший в Могилёв и ничего не подозревавший Монтагю был арестован по предписанию генерал-губернатора Белорусских наместничеств П. Б. Пассека (1736—1804) и переправлен в Петербург. Там его допросили в тайной канцелярии Сената, получили от него полное признание своей вины, прошение о помиловании и обещание загладить свои поступки. Самойлов доложил о результатах предварительного следствия Екатерине.
По законам, считал генерал-прокурор, Монтагю грозила смертная казнь, но, с учётом милосердия императрицы, предлагалось сослать его в Сибирь – подальше на север, в какой-нибудь Туруханск или Берёзов. При этом он справедливо полагал, что дело не в наказании виновного, а «сколько для того, дабы других могло отвращать от подобных преступлений». А вообще возможно следовало бы поступить «по форме»: поскольку Монатгю является офицером флота, то его следовало бы судить здесь в Петербурге судом Адмиралтейской Коллегии.
Вину Жирара Самойлов считал менее тяжкой: всё-таки он способствовал разоблачению шпиона. Вместе с тем, оставлять его в России было бы нецелесообразно – такой человек и из Сибири найдёт способы причинять России зло, а потому лучше всего его следовало выпроводить из страны. Этой процедурой, считал Самойлов, должен был заняться Безбородко, начальник Жирара. Не было нужды сомневаться в том, что Безбородко будет затягивать эту процедуру, и скоро Жирар был тихонько выпровожден за пределы России.
10 августа 1794 года Адмиралтейств-Коллегия под председательством адмирала И. Л. Кутузова-Голенищева (1729—1802) приступила к рассмотрению дела Монтагю. Обвиняемому были поставлены вопросы о том, когда, как и почему он стал шпионом. Сначала француз пытался отклонить обвинение, но потом сознался и рассказал о том, что, попав под влияние аббата Сабатье-де-Кастра, согласился выехать в Яссы, чтобы служить под прикрытием князя Муртази Оттоманской Порте (служить, вероятно, так же, как он послужил России, Б.Г.) В Яссах сверхосторожный Муртази отказался дать Монтагю место при себе, и тогда Монтагю решил поступить на службу в Черноморский флот. Поводом для такого решения послужило знакомство с оказавшимся в Яссах русским адмиралом К. Г. Нассау-Зиген (1743—1808)24. Нассау-Зиген составил французу протекцию у посла Разумовского в Вене, дав ему самую лестную характеристику.
Прибыв в Россию Монтагю, по его словам, решил якобы шпионажем не заниматься, а посвятить себя исключительно службе в русском флоте. Когда же ему указали на преступную переписку с Мурузи, он начал выдумывать всякие обстоятельства, опровергающие это очевидное доказательство его шпионской деятельности. Письмо к Мурузи якобы имело целью получение денег от князя и убытие из России, где ему не очень нравилось. Он заявил, что его поступками руководила не жадность к деньгам, а благодарность к новым друзьям, т. е. к аббату Сабатье и просил дать ему возможность искупить свою вину, например на борту брандера для поджога корабля противника России.
Генеральный военный суд приговорил Монтагю к смертной казни, но поскольку смертная казнь в России была отменена указом 1754 года императрицей Елизаветой Петровной, её заменяли наказанием кнутом, вырезанием ноздрей и клеймением. Но и это наказание не было применено по отношению к шпиону, т. к. Монтагю был дворянином и от телесных наказаний был освобождён. Тогда суд принял решение лишить Монтагю звания дворянина и передать дело на рассмотрение Правительствующего Сената. Сенат, рассмотрев дело Монтагю, передал его на личное усмотрение Екатерины.
Императрица, приняв во внимание, что шпионская деятельность Монтагю не успела нанести государству большого вреда, предложила лишить его чинов и дворянства и «ошельмовать его публично, переломя над головою его на эшафоте через палача шпагу… и потом сослать в Сибирь на вечную каторжную работу». Решение императрицы было объявлено россиянам 18 декабря 1794 года. Ни аббат Сабатье, ни Конвент Франции попыток к его освобождению не предприняли.
Постскриптум. В январе 1795 года русский посланник в Венеции А. С. Мордвинов (1733-?) сообщил в Петербург, что ему через хранителя архива Конвента некоего Боанарда удалось получить подтверждения шпионской деятельности Монтагю. Вообще же в Петербурге действовала целая сеть шпионов Конвента – например, коммерсант Пиетро Аладо, который поддерживал связь с Конвентом через Копенгаген и уведомил Конвент о разоблачении Монтагю.
В сибирских каторжных работах Монтагю пробыл до 1802 года, когда особая комиссия по приказу Александра I занялась пересмотром уголовных дел предшествовавших царствований. Комиссия признала необходимым оставить дело Монтагю в прежнем состоянии, однако император изменил это решение своей резолюцией: «Избавить от каторжной работы с оставлением на житьё в Сибири… с присмотром за его поведением».
Дальнейшая участь Огюста Монтагю неизвестна, заключает свою статью М. Я. Корольков.
Наш комментарий
Удивляет, как быстро революционная Франция наладила свою разведывательную сеть и раскинула её на всю Европу, в том числе и ещё на не состоящую с ней в войне Россию. Думается, частью своих неудач в войне с революцией монархическая Европа обязана деятельностью этой службы.
О. Монтагю стал жертвой типичной для многих разведслужб ошибки – пренебрежения работой со своими источниками. Агент – тонкий инструмент, и для поддержания его боеготовности требуется постоянное внимание и забота о его повседневных нуждах, а это без личных встреч резидента с ним невозможно. Измена Жирара, на наш взгляд, свидетельствует именно об этом. Личные встречи с агентом увеличивают риск расшифровки, но зато помогают контролировать его настроения и своевременно корректировать его поведение.
Глава 8. Восточный вопрос при Николае I (1826—1830 гг.)25
Под восточным вопросом в описываемое Н. К. Шильдером время подразумевалась ситуация в Османской Порте и на Балканах.
Историк пишет, что Александр I, разочаровавшись в позиции стран Европы по восточному вопросу, в конце своего правления принял решение освободиться от сотрудничества с ними и действовать по отношению к Турции, исходя исключительно из интересов России. В этой связи император дал указание Нессельроде собрать на этот счёт мнение русских послов, аккредитованных в главных странах Европы.
Австрийский канцлер Клемент фон Меттерних забил тревогу: он опасался развала Священного союза, из которого пользу извлекала в основном Австрия и в котором Россия играла роль жандарма. Очевидно, Александр I не мог себе простить свою уступку Меттерниху, уговорившему его не оказывать помощь грекам, восставшим против турецкой тирании, поскольку греки посягнули на священный принцип легитимизма.
Александр не успел ознакомиться с мнением своих дипломатов по поводу свободы действий в восточном вопросе, покинув этот мир в 1825 году. Это выпало уже на долю Николая I, давшего при восхождении на трон обещание во всём следовать своему старшему брату.

Император Николай I (1796 – 1855)
Самый содержательный и замечательный отзыв принадлежал послу во Франции Карлу Осиповичу Поццо-ди-Борго26. Выражая удовлетворение освобождением России от жёсткой связки со Священным союзом, Поццо-ди-Борго справедливо отмечал, что союз этот России ничего не дал, и что всю выгоду от него получили другие его участники, главным образом Австрия. Конечно, в итоге Россия утратит часть своего влияния на Европу, а потому нужно, чтобы негодование наше на союзников выразилось бы не одним только пассивным молчанием, но и существенными практическими мерами.
Посол считал, что такими мерами моги бы стать действия России по защите прав народов, попранных Турцией. Россия должна в этом смысле выставить Порте ультиматум, а если Константинополь отвергнет его, то Россия должна ввести свои войска в Молдавию и Валахию и выгнать оттуда турок. Никто, кроме Австрии, не посмеет возразить или принять меры в отношении нас, а против Австрии нужно выставить на Дунае обсервационный корпус, чтобы в случае чего обрушиться на Габсбургскую монархию и уничтожить её. Впрочем, посол не думает, что Вена решится на военные действия, а ограничится интригами и тайной помощью Турции.
Николай I, пишет Шильдер, полностью принял доводы Поццо-ди-Борго, но оставил за собой особое мнение по вопросу поддержки греческого восстания. Он полагал необходимым поставить восстание под твёрдый контроль, дабы оно не приняло революционный и антимонархический характер.
В это время премьер-министр Англии Джордж Каннинг проявил интерес к совместным действиям с Россией по греческому вопросу. В связи с восшествием на престол Николая I в феврале 1826 года он направил в Петербург специального посланника – полководца лорда А. У. Веллингтона (1769—1852), который в 1816 году радушно принимал в Лондоне Николая, тогда великого князя.
Николай I провёл с Веллингтоном целый раунд переговоров. В первой беседе лорд сообщил о предложении Лондона покончить с греческим вопросом вдвоём – Россией и Англией. Николай в письме брату Константину писал, что он изобразил при этих словах изумление, чтобы дать возможность Веллингтону высказаться. Разговор перешёл на претензии к Турции и император подтвердил свою решимость разобраться с турками одному, без участия союзников27. Что касается греков, то он смотрит на них как на возмутившихся подданных Османской империи – раз уж она всё ещё существует.
Веллингтон ответил, что Турция для Англии считается дружественной державой, и что Англия к ней претензий не имеет. Николай сказал на это, что Веллингтон плохо осведомлён о том, что происходит в Турции и на Балканах, и что Россия имеет к Оттоманской Порте ряд серьёзных претензий, которые в течение четырёх последних лет не устранены и находятся в неопределённом состоянии. Веллингтон, по словам императора, был явно удивлён услышанным и разговор прервал.
В результате переговоров 23 марта (4 апреля) 1826 года Нессельроде, посол России в Лондоне Х. А. Ливен и Веллингтон подписали т. н. Петербургский протокол, знаменующий собой соглашение России и Англии, имевший целью примирение между Турцией и греками. Суть соглашения выражалась в следующем: Порта сохраняет свою власть над Грецией, которая продолжает платить ей дань; турецкие земли в Морее и Архипелаге отходят к Греции за известный выкуп; Греция управляется правительством, выбранным народом и утверждённым Портой и пользуется независимостью в управлении внутренними делами, торговлей и свободой совести.
В протоколе оговаривалось, что если Порта не примет посредничество Англии и России, то страны всё равно будут придерживаться положений протокола. Какие-либо репрессивные меры в отношении Порты при этом не определялись. Протокол был первым дипломатическим актом Николая I, и текст его был разослан в Вену, Париж и Берлин. Император не скрыл от Веллингтона, что он повелел предъявить Порте ультиматум.
Ультиматум последовал на следующий день после подписания упомянутого выше протокола и содержал три пункта. Порта должна была:
– вывести свои войска из Молдавии и Валахии и восстановить там порядок, нарушенный карательными мерами турок в отношении восставших княжеств;
– немедленно освободить сербских депутатов, арестованных в Константинополе, и предоставить сербскому народу условия, оговоренные Бухарестским трактатом и
– отправить своих уполномоченных к русской границе для возобновления переговоров, веденных в 1816—1821 гг. по поводу русско-турецких отношений, и для заключения новых соглашений, которые бы положили основу для мирных и дружественных отношений между обеими империями.
Ультиматум застал Константинополь врасплох. Там никак не ожидали, что Россия, находившаяся в тяжёлом положении, была способна на такие резкие шаги. Советники у султана были разные, но европейские послы посоветовали ему принять ультиматум. И Порта назначила своих уполномоченных для переговоров в Аккерман, куда с российской стороны прибыл новороссийский губернатор М. С. Воронцов.
Переговоры в Аккермане завершились заключением конвенции, и казалось, что отношения между обеими империями были на пути разрядки. На Кавказском фронте граф Паскевич Эриванский добился победы над персами, что способствовало укреплению внешнеполитического положения России. «Кипятился» один Меттерних и пытался даже запугать Николая I революцией в Греции. Делал он выпады против ненавистного ему Каннинга, но всё было напрасно: караван продолжал шагать дальше.
Впрочем, противник политики Николая I нашёлся в самой царской семье.
В. к. Константин Павлович, наместник в Польше, писал брату о непредвиденных сложностях, которые ожидают Россию на пути противостояния с Портой. Он указывал на неистовства либеральной Европы; утверждал, что восстановить торговлю на Чёрном море всё равно не удастся, потому что Англия этого не допустит; что в Балтийском море появится английская эскадра и прикроет единственный канал русской торговли; и что Швеция присоединится к Англии; что денег и войск на войну на Балтике и в Чёрном море не хватит и т. д. Наверное, эта позиция Константина Павловича не доставила ему радости, но он был готов идти по намеченному пути, не взирая на все препоны и уговоры.

Великий князь Константин Павлович – весьма противоречивая фигура в русской истории, с которой связано, в частности, выступление декабристов на Сенатской площади.
В это время произошло ещё одно знаковое событие: в Средиземное море отправилась эскадра Балтийского флота в составе 4 линейных кораблей, 4 фрегатов и 2 бригов под командованием контр-адмирала Л. П. Гейдена. Перед эскадрой была поставлена задача защиты русской торговли в Архипелаге (одно из названий островов Эгейского моря). Одновременно в Портсмут отправилась эскадра под командованием адмирала Д. Н. Сенявина, где 24 июня (6 июля) на базе Петербургского протокола между Россией, Англией и Францией был подписан трактат, имевший целью остановить на Балканах кровопролитие и предотвратить всякие бедствия в районе Средиземного моря.
Своевременность заключения Лондонского договора подтверждалась зловещими планами Порты истребить христианское население в Греции и других принадлежавших ей княжествах, для чего султан запросил помощь у своего египетского вассала, паши Мегмета-Али. Паша снарядил большой флот, поручил командование им своему сыну Ибрагиму-паше и отправил его в Морею.
Первым последствием Лондонского договора явилось истребление турецко-египетского флота в Наваринской бухте 8 (20) октября 1827 года. Объединённым русско-франко-английским флотом командовал англичанин адмирал Эдвард Кодрингтон, французскими кораблями – контр-адмирал А. Г. де-Риньи, а русской эскадрой – упомянутый контр-адмирал Л. П. Гейден. Противник имел громадный перевес над европейцами: у них было 65 кораблей при 2106 орудиях, а у союзников всего 28 кораблей при 1298 орудиях.

План Наваринского сражения. Типография И. И. Родаевича, 1877 г.
Наваринское поражение привело Порту в оцепенение. В 1826 году султан ликвидировал янычарское войско, и вот теперь Турция лишилась своего флота. В своём гневе султан Махмуд II приказал убить всех европейских послов в Константинополе, и его с трудом уговорил визирь не делать этого. Когда драгоман осмелился грозить русскому послу А. И. Рибопьеру заключением в Семибашенный замок, Александр Иванович ответил, что будет защищать себя и жизнь своих сотрудников с оружием в руках, а если они погибнут, то Россия отомстит за них и от Константинополя не останется камня на камне. Впрочем, Александр Иванович не стал рисковать и уехал из Константинополя в Архипелаг под защиту русских моряков.
Итак, главное препятствие на пути Николая I – противодействие европейских стран – Лондонским договором было устранено, и руки у него были развязаны. А султан, тем не менее, духом не упал, идти на уступки не собирался и стал готовиться к войне с Россией. Послы союзников, пишет Шильдер, принялись за бесплодные переговоры с Портой. На вопрос о том, считает ли Турция Наваринское сражение поводом к войне, рейс-эфенди замысловато отвечал:
– Когда женщина не разрешилась ещё от бремени, невозможно сказать, кого родит она – мальчика или девочку.
Наконец Махмуд объявил об уступках, которые он намерен сделать грекам: не требовать от них уплаты дани за последние 6 лет, не требовать компенсации за причинённые убытки и со дня объявления покорности освободить их на 1 год от всех налогов. Послы России, Англии и Франции посчитали эти уступки недостаточными, и дальнейшие переговоры с султаном заглохли. Тогда послы потребовали паспорта и покинули Константинополь.
Реакция на Наваринское сражение в Европе была разной.
Император Франции Франц Иосиф назвал Кодрингтона и его союзников убийцами. Меттерних завопил, что Наваринский погром открывает собой эпоху всеобщего замешательства и хаоса.
Король Франции Карл Х назвал сражение событием, которое покрыло славой французское оружие и послужило залогом согласия союзников.
Английское правительство хотело предать Кодрингтона суду. Король Георг IV назвал Наваринское сражение неприятным событием.
Николай I наградил вице-адмирала Кодрингтона орденом Св. Георгия 2-й степени. Графу Гейдену был пожалован орден Св. Георгия 3-й степени. В числе отличившихся были командир линейного корабля «Азов» капитан 1 ранга М. П. Лазарев, лейтенант П. С. Нахимов и мичман В. А. Корнилов. В. к. Константин Павлович отнёсся к победе в Наваринской бухте с определённым скепсисом: он утверждал, что русские участвовали в сражении по своему чистосердечию, французы – по глупости, и только англичане действовали для своей выгоды. В Англии в это время утверждали, что от указанного сражения больше всех выиграли русские. Бенкендорф в своих мемуарах написал, что в результате Наваринской битвы отношения с Турцией резко ухудшились, а русская торговля подверглась притеснениям.
А дело, между тем, шло к войне. 8 (20) декабря Порта обнародовала гатти-шериф, в котором называла Россию своим непримиримым врагом. России, пишет Шильдер, оставалось одно – принять вызов, брошенный турками. 14 (26) апреля 1828 года в Петербурге был обнародован манифест Николая I о войне с Турцией.
Глава 9. Турецкая разведка в России в 1877—1878 гг.28
Сразу оговоримся: о существовании разведывательной службы Турции накануне войны 1877—1878 гг. нам неизвестно, но это не означает, что её в том или ином виде не было. Целенаправленная засылка турецких эмиссаров на территорию России, о которой нам повествует Павел Львович, не могла осуществляться иначе, как под руководством компетентного органа. Во всяком случае, мы видим в этом явлении, говоря современным языком, очевидные признаки т.н. активных мероприятий и идеологической диверсии, направленных на дестабилизацию обстановки в стане противника.
Война не началась, но обстановка в стране создалась напряжённая.
Ни для кого уже не было секретом, что правительство не останется равнодушным к страданиям православных христиан на Балканах и окажет им помощь в освобождении от османского ига. Не только в дворянском и купеческом обществе России циркулировали в этой связи различные слухи – в тревожном состоянии находились и мусульмане. В мусульманской среде ещё не были изжиты настроения, связанные с приходом на их земли русских пришельцев.
Самой беспокойной областью в российском государстве издавна был Оренбургский край, населённый разнородными племенами башкир, татар, киргизов, тептирей29, мещеряков, мордвы, чувашей, черемисов и вотяков. Частыми волнениями отличалась и Башкирия, русское население которой составляло примерно одну треть от башкирского (800 тысяч человек). Тёмные массы населения этих областей, пишет Юдин, ещё питались преданиями о том, как они в своё время порабощали русских, и инстинктивно тяготели к единоверной Турции. Такие настроения подпитывались также регулярными контактами с Бухарой, Хивой и Турцией, проповедники которых были частыми гостями в наших зауральских землях и своими речами разжигали среди башкир, татар и др. поселян вражду к русским.
Мусульманские эмиссары для своих «визитов» выбирали моменты каких-либо политических событий, в которых участвовала Россия, или наносили их во время бедствий других стран. Они наезжали целыми партиями, рассыпались в лесных дебрях или горных ущельях и своими злобными наветами подстрекали башкир к волнениям и восстаниям.
Активность эмиссаров стала проявляться сразу после первых столкновений герцеговинских инсургентов с турецкой армией. Мудрые софты30, пишет Юдин, предвидели, что Россия не оставит в беде восставших, и чтобы помешать или оттянуть русское вмешательство в балканские дела, в глубину оренбургских степей были отправлены многочисленные проповедники. Они должны были организовать среди оренбургских мусульман восстание, на подавление которого Россия ввиду войны с Турцией будет вынуждена оттянуть часть вооружённых сил.
Первых трёх эмиссаров задержали в Оренбургском крае летом 1876 года. Потом нескольких проповедников поймали в киргизских степях Тургайской области, а потом и в Туркестанском генерал-губернаторстве. По распоряжению оренбургского генерал-губернатора генерал-адъютанта Н. А. Крыжановского были приняты меры «к самому бдительному наблюдению за подобными выходцами». Бдительное наблюдение позволило сделать вывод о том, что турецкие эмиссары для своей пропаганды выбрали центральные районы Башкирии – Бирский и Белебеевский уезды Уфимской губернии. Как выразился один из этих эмиссаров, появившийся у муллы деревни Байсарово, это была «благодатная страна, как по урожаю хлебов, так и трав, и народ жил тихий и смирный».