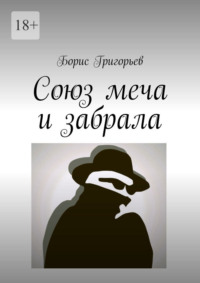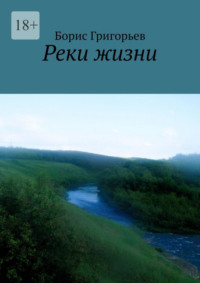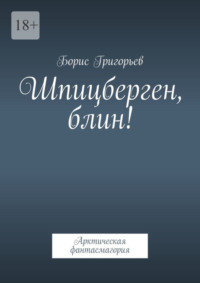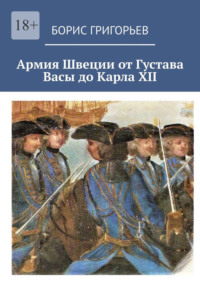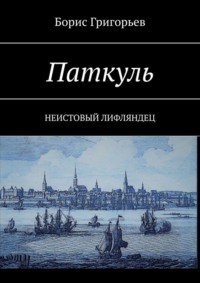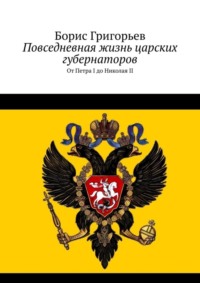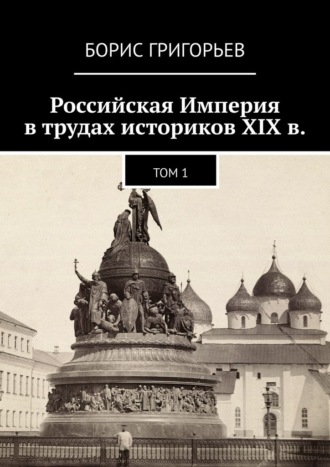
Полная версия
Российская Империя в трудах историков XIX в. Том 1
В Стокгольме, однако, правильно расценили ответ царя, и сразу после этого Оксеншерна снарядил в Москву новое посольство – Рубцова и Ю. Бернхарта, но Москва пока однозначного ответа не давала, хотя и «радовалась победам короля Густава» и сочувствовала целям его борьбы с Империей. Царь и его отец патриарх Филарет понимали, что воевать с поляками России придётся в одиночку, а Швеция вызывала естественные подозрения хотя бы потому, что в прошлом вела себя по отношению к России крайне агрессивно и недружественно. Чисто теоретически Москва была должна также учитывать возможность антирусского польско-шведского альянса. Поэтому России нужна была коалиция государств, способная поддержать её в предстоящей войне с Речью Посполитой. Отсюда начатые Москвой переговоры с Англией, Голландией, Турцией и Крымом, отсюда их благосклонное отношение к инициативе трансильванского князя Бетлена Габора и шведскому зондажу.
Дальнейшие попытки Стокгольма наладить контакты с Москвой становятся уже более определёнными и настойчивыми. У Москвы и Швеции оказались общие болевые точки. Москва и Стокгольм в одно и то же время попали в династическую ловушку, устроенную Польшей. Шведская ветвь династии Васа в Польше претендовала на шведский трон, а провозглашённый 17 августа 1610 года русским царём принц Владислав, сын Сигизмунда из первого брака, формально и после избрания на престол Михаила Романова продолжал претендовать на русский трон. В этой связи царь Михаил всё время опасался Владислава, в то время как Густав Адольф – короля Сигизмунда. Ввиду возможной скорой смерти короля Сигизмунда у России и Швеции появилась общая цель не допустить выбора в польские короли принца Владислава, потому что он претендовал бы одновременно и на царский трон, и на шведскую корону. Как Москва, так и Стокгольм считали своим заклятым врагом Польшу, а потому и у шведов, и у русских были налицо все объективные предпосылки для того, чтобы стать союзниками в общей борьбе с поляками.

Владислав IV Васа (художник Питер Пауль Рубенс)
Инициативу в переговорах с Москвой проявил Густав Адольф, который к этому времени уже отобрал у Польши Лифляндию, провёл успешную кампанию в Пруссии и заключил Альтмаркское перемирие с поляками. Король планировал теперь высадку на севере Германии, поэтому нужно было окончательно обезопасить себя от Польши, фактически ставшей союзницей австрийского кесаря. Отвлекать крупные военные контингенты на Польшу Швеция была не в состоянии, потому и появились у короля планы подключить к общей борьбе с католиками русского царя. К тому же шведы были чрезвычайно заинтересованы в торговле с Россией, которая, вопреки их планам, не пошла через шведскую таможню в Балтийском море, а была переориентирована на море Белое.
Альтмаркское соглашение 1629 года между Швецией и Польшей произошло при посредничестве Франции, заинтересованной в скорейшем вовлечении Густава Адольфа в германскую войну. Кардинал Ришелье каким-то путём – вероятно, через своего посла в Турции42 – узнал о том, что Россия не собирается ждать окончания Деулинского перемирия с поляками и планирует до его истечения открыть военные действия. Кардинал отправил в Москву посольство Деэ де Курменена, чтобы подтолкнуть Москву к войне с Польшей в союзе с трансильванским (венгерским) князем Бетленом Габором. Царя Михаила и патриарха Филарета убеждать в этом, однако, не было никакой необходимости, ибо Москва к тому времени уже представляла примерный расклад сил в Европе и Германии и однозначно определила своё место на стороне антигабсбургских сил. Де Курменен только снова убедился в достоверности полученной ранее информации: Россия готовилась к войне с Польшей. Этого было вполне достаточно для того, чтобы нажать на Сигизмунда III и склонить его к миру со шведами, а шведам – чтобы развязать руки для войны против императора более чем за полгода до подписания шведско-французского военного договора в январе 1631 года. Это был еще один факт косвенного влияния Москвы на ход Тридцатилетней войны.
…Следующее шведское посольство прибыло в Москву 6 (17) февраля 1630 года, когда в Стокгольме полным ходом шли приготовления к высадке шведской армии в Германии. Его возглавил Антон Монье (Мonier), голландец по национальности, поступивший на шведскую службу43. Густав II Адольф поручил ему уведомить царя44 о заключении перемирия с поляками и попытаться наладить и развить с Москвой политическое и торговое сотрудничество. В отношении шведско-польского перемирия А. Монье должен был заявить царю Михаилу, что Альтмаркское соглашение король Густав рассматривает как вынужденное и временное, потому что Швеция была не в состоянии вести войну сразу на два фронта – с кесарем и польским королём. Далее посол должен был снова указать русским на опасность, которую представляла для них контрреформация в Германии. Речь Посполитая активно поддерживала кесаря Фердинанда II в этом направлении, поэтому Густав Адольф предлагал Москве совершить нападение на Польшу, чрезвычайно ослабленную войной со шведами в Пруссии и Ливонии. К этому времени в Стокгольме уже знали, что с аналогичным предложением к царю обращались турки и крымские татары, а посольство хана уже находилось на пути в Москву. Султан и крымский хан планировали также привлечь в союзники шведов. Создавалась уникальная ситуация, в которой одни традиционные враги России собирались в унию против другого её старого врага.
Вслед Монье Стокгольм направил ему дополнительное письмо, в котором поручал отдельно заверить царя в дружбе и полной солидарности в возможной войне с Польшей. Швеция, в случае русско-польской войны, обещала вести себя «угрожающе» в Лифляндии и Пруссии и оттягивать на себя крупные воинские силы Речи Посполитой, так что русским придётся иметь дело с распылённой по границам польской армией. Да и вообще, заявляли шведы, дело может повернуться так, что «дерзкие по нраву поляки не смогут удержаться», первыми нарушат перемирие и дадут Швеции повод вмешаться в военные действия. В таком случае русские могут не сомневаться, что шведы колебаться не станут и вместе с русскими решительно выступят против общего врага.
Экономический раздел инструкции А. Монье предусматривал взаимную помощь в противостоянии с всё тем же общим противником. Русский рынок в это время представлял огромный интерес для западно-европейских стран. Шведская торговая политика преследовала в России три амбициозные цели: осуществлять дешёвые закупки зерна для снабжения своей армии и перепродажи его по выгодной цене на европейских рынках, канализировать архангельскую торговлю на балтийские порты, в первую очередь на Нарву, и совместно с русскими открыть торговый путь на Персию.
Столбовским миром 1617 года шведы, как известно, сами перекрыли русскую торговлю через Балтийское море, и теперь она успешно велась через Архангельск со старыми и испытанными партнёрами – англичанами и голландцами. Интерес последних к Архангельску повысился особенно после того, как шведы заняли Пруссию и взяли под свой контроль все таможенные портовые сборы от Ревеля до Данцига. Предприимчивые и богатые голландцы быстро вытеснили на русском рынке англичан, предлагая более высокие цены на товары и подкупая взятками подьячих, дьяков и бояр, отвечавших за архангельскую торговлю. Когда шведы в 1629 году попытались утвердиться на русском рынке, то обнаружили, что голландцы практически стали там монополистами, а англичанам, немцам, датчанам и французам, не говоря уж о них самих, в России приходилось довольствоваться остатками. У шведов, в частности, не хватало резервного капитала, а царь и патриарх нуждались тогда именно в деньгах, так необходимых на войну с Польшей. Царь, державший в своих руках торговлю хлебом и некоторыми другими товарами, естественно предпочитал продавать его тем, кто предлагал более выгодную цену. Шведские купцы зависели от голландского кредита, но царь векселей не принимал, и тогда им приходилось искать другие пути и средства. Шведы расплачивались теперь за трудности, которые они своей эгоистичной политикой сами создали на своих границах.
Посольство Монье было призвано попытаться разорвать этот порочный круг и помочь шведской торговле. Денег у шведов не было, но зато у них было железо, медь и оружие. Вот эти-то товары в обмен на русское зерно и селитру предлагал Москве король Густав. А. Монье действовал напористо и подал царю обширную жалобу на бесчинства русских чиновников, ответственных за торговлю с Европой и за прекращение торговых операций со Швецией. Так, жаловался он, из обещанных 50 тысяч четвертей ржи русские дьяки отпустили всего 23 тысячи, в то время как голландцы и гамбуржцы скупали рожь в неограниченных количествах. Монье просил царя навести порядок в Архангельске и помочь не только выполнить по ржи заказ, но и увеличить его ещё на 75 тысяч четвертей.
На приёме у бояр 20 февраля (3 марта) 1630 года шведский посол получил на свои предложения и жалобы такой ответ, при котором у него из грудной клетки чуть не выскочило сердце. Реакция царя Михаила превзошла все ожидания Стокгольма! Москва с большим удовлетворением приняла предложение шведского короля о дружбе. Перемирие шведов с поляками было воспринято царём с пониманием и как препятствие для развития отношений со шведами не рассматривалось. В отношении войны с Польшей царь уже принял положительное решение. В июле 1629 года на русской границе появились польские комиссары, которые сообщили о скором прибытии из Варшавы в Москву высоких послов для ведения переговоров о длительном и прочном мире, но русские дьяки комиссаров выслушали и завернули обратно. А. Монье со слов московских бояр докладывал в Стокгольм, что польский король условия перемирия не соблюдает, а потому «окончания перемирия Его Царское Величество ожидать не собирается, ибо настроен предупредить злые умыслы короля Польши и его приверженцев и напасть на них с оружием в руках». Бояре, встречавшиеся со шведским послом, подчеркивали при этом значение дружественных связей Москвы с Турцией – чтобы «свейские люди» не подумали, что у России нет друзей, и что Москва станет вешаться Стокгольму на шею.
Посол Монье был человеком внимательным и основательным. Он быстро разобрался в московской обстановке и доложил, что главную роль в управлении Россией играет патриарх Филарет, отец царя, и что наступательный союз со Швецией отвечает духу и настроениям энергичного патриарха. Торговые вопросы также были решены в соответствии с пожеланиями шведской стороны. Несмотря на плохой урожай, царь распорядился продать шведам хлеба столько, сколько они просят. То же самое было решено в отношении селитры, которую разрешили вывозить в Швецию без таможенной пошлины. Провинившихся и проворовавшихся московских и архангельских дьяков и архангельского воеводу Дементия Буйносова обещали строго наказать. Была достигнута договорённость о том, чтобы шведы могли держать в России своего торгового фактора45, который будет лично наблюдать за исполнением шведского заказа. Им станет Юхан Мёллер, который весной 1630 года отправится в Архангельск.
В конце 1630 года в отношениях между Россией и Швецией произошёл один неприятный эпизод, заставивший вспыхнуть подозрения Москвы в отношении своего северного соседа с новой силой. Ещё на пути в Москву Антону Монье повстречалось посольство крымского хана, направлявшееся в Стокгольм с предложением о совместных военных действиях против Польши или Австрии. Густаву Адольфу был предпочтителен второй вариант, и для уточнения деталей предстоящего союза с Бахчисараем он отправил в Крым своего посла Бенджамина Барона. На пути в Крым в декабре 1630 года Б. Барон был задержан в Москве и допрошен о цели своей миссии. На вполне обоснованные подозрения русских неудачным образом наложились поступившие из Польши слухи о том, что король Густав якобы договорился с поляками о совместных военных действиях против Москвы. Основанием для таких слухов послужили активные действия шведов в Варшаве по продвижению кандидатуры своего короля на освобождавшийся в ближайшей перспективе – из-за преклонного возраста и болезни Сигизмунда – польский трон. На самом деле, король Густав на избрание себя польским королём рассчитывал мало, а выдвижение своей кандидатуры на польский трон он замыслил как акцию, предназначенную спутать полякам карты при выборе нового короля, вызвать разногласия в их лагере и помешать избранию на трон сыновей Сигизмунда. Москва, изолированная от Европы, не имевшая достоверной и оперативной информации о событиях за границей и наученная горьким опытом обращения с «просвещёнными» европейцами, конечно, имела все основания не доверять шведам. Впрочем, они вскоре рассеялись, потому что из Стокгольма пришли разъяснения, и Барона отпустили восвояси, надеясь на то, что ему в Дикой Степи или в Крыму всё равно не сдобровать. К результатам поездки Б. Барона в Крым мы ещё вернёмся, а пока оставим его на полтора года наедине с буйными запорожцами и дикими татарами.
Попутно отвлечёмся в сторону польских планов Густава Адольфа. Король, выставляя свою кандидатуру на польский трон, делал ставку на поддержку т.н. польских диссидентов – недовольных Сигизмундом III магнатов, в первую очередь представителей лютеранского и кальвинистского вероисповедания46. Среди последних самое видное место занимали литовский полевой гетман Кшиштоф Радзивилл (лютеранин) и лидер кальвинистов Равал Лещинский. С ними наладили и поддерживали контакты эльбингский губернатор и канцлер А. Оксеншерна и рижский губернатор Ю. Шютте. Для осуществления своих планов король Густав послал в Польшу нескольких официальных и полуофициальных представителей.
Как всякое междуцарствие, так и польский interregnum был тяжким, смутным и бурным периодом. Положение усугублялось полным истощением польской казны, тревожной внешней обстановкой, болезнью престарелого короля, противоречиями в самой королевской семье. Вторая супруга Сигизмунда австриячка Констанция имела большой влияние на внутреннюю и внешнюю политику Польши, всеми силами стремилась посадить на трон своего кровного сына Яна Казимира и всячески препятствовала избранию королём своего пасынка принца Владислава, сына Сигизмунда от первого брака, формального обладателя царского титула.
Как мы уже упоминали, выдвижение кандидатуры Густава Адольфа на польский трон носило чисто тактический характер и никакой реальной перспективы для избрания оно не имело. Густаву II Адольфу было важно любыми способами ослабить своего старого противника и расшатать государственные основания Речи Посполитой. Известно, что канцлер Оксеншерна весьма скептически отнёсся к этой инициативе своего короля, но как настоящий верноподданный «отдал под козырёк» и приступил к исполнению предначертанного. В конечном итоге оказался прав канцлер, из «избирательной кампании» Густава Адольфа ничего не вышло47, в короли всё-таки выбрали принца Владислава – претендента и на царский титул, и на трон Швеции. Но кое-какой «навар» из своей польской «диверсии» король Густав получил.
И тут в шведско-русские дела вторгается новая – эксцентрическая – личность, которая оставила заметный след в истории вообще и сыграла наиболее яркую роль в установлении королём Густавом доверительных отношений с русским царём Михаилом Фёдоровичем, в частности. Речь идёт о французе Жаке Русселе. Отношение к нему как со стороны современников, так и историков всегда было неоднозначным, многое об этом человеке скрыто завесами тайны, но интерес к его личности был неизменным во все времена.
Появление Ж.Русселя на московском небосклоне связано с вмешательством шведов в польские дела. Когда вопрос о выборе нового короля в Польше перешёл в практическую плоскость, канцлер Оксеншерна послал в Варшаву двух своих представителей – Георга Швенгеля и Фридриха Шеффера, которые вступили в контакт с польскими диссидентствующими магнатами и постоянно отчитывались о своих действиях перед патроном. Жака Русселя в польских делах использовал сам король Густав, не гнушавшийся никакими средствами для исполнения намеченных планов. Когда француз подвернулся ему под руку, он сделал его своим доверенным лицом и в течение трёх лет, с 1630 по 1633 г.г., пользовался его услугами как на дипломатическом, так и разведывательном поприще.
Впервые имя Жака Русселя в связи с королём Густавом II Адольфом всплывает в 1627 году, когда он, французский юрист из Седана, написал королю Швеции послание, в котором превозносил его заслуги и подвиги, выражал желание с ним встретиться и заявлял о том, что собирается написать обширный труд о шведском королевстве. Юрист-писатель не умирал от скромности и просил предоставить ему возможность вступить в контакт по этому поводу не с доктором Людвигом Камерариусом, шведским резидентом в Генеральных Штатах, который якобы «слегка ревнует и завидует»
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Источник: статья историка Д. И. Иловайского в журнале «Русская старина» том LIV за 1887 год.
2
В 1509 году на воровстве был пойман пономарь Троицкой церкви, присвоивший 400 рублей приходских денег. Его пытали на вече кнутом, заставили во всём признаться, а потом сожгли живым.
3
Источник: отрывки из книги П. О. Пирлинга «Россия и папский престол», см. журнал «Русская старина» том CVIII за 1901 год.
4
Резиденция польских королей.
5
Вид плаща.
6
Для П. О. Пирлинга эти ссылки оказались сюрпризом, потому что никаких документов он на этот счёт не обнаружил.
7
Шеину через 10 лет придётся брать Смоленск у поляков обратно, но, потерпев неудачу, он подвергся жестокой опале Михаила Романова и был приговоре к смертной казни.
8
Павел Осипович Пирлинг – русский историк. при этом католический священник немецкого происхождения и к тому же иезуит. Все это вместе делает работы Пирлинга по данному вопросу весьма интересными.
9
Аннотация статьи П. А. Матвеева (1844-?), критика, публициста и и.о. председателя Санкт-Петербургского цензурного комитета (1898) «Москва и Малороссия в управлении Ордин-Нащокина Малороссийским приказом», см. журнал «Русский архив» том №104 за 1901 год.
10
Черкасы или черкассы – одно из исторических названий запорожских казаков и адыгов. Черкасами в XVI веке могли называть польских пленников или выходцев из Речи Посполитой, поселённых в южной Украине, а также малороссов вообще.
11
Царь Алексей Михайлович на 300 лет опередил Черчилля, назвав Польшу злобным животным.
12
Аннотация статьи А. Г. Брикнера «Россия и Европа при Петре Великом», см. журнал «Исторический вестник» том 2 за 1880 год.
13
См. мою книгу «Принуждение к миру», опубликованную издательством «Ридеро».
14
Источник: извлечения из донесений английского посла Чарльза Витворта лорду У. Гренвиллу (1759—1834), сделанные профессором В. Н. Александренко, см. журнал «Русская старина» том XCVI за 1898 год.
15
В 1804 году Я. И. Смирнов был произведен в дворяне. В 1837 году по состоянию здоровья он оставил службу в посольской церкви, а в 1840 году умер и похоронен на кладбище Кенсал-Грин Лондона. В 2012 году на средства, собранные нашими соотечественниками и сотрудниками посольства РФ, Я. И. Смирнову был поставлен памятник.
16
Источник: статья историка Я. К. Грота «К истории шведской войны в 1788 году», опубликованная в журнале «Русский архив» том XI за 1869 год. Известный русский историк Яков Карлович Грот (1812—1893) при написании своей статьи воспользовался шведской книгой Барфуда «Märkvärdigheter rörande Sveriges förhållanden 1788—1792, Sthlm.1846».
17
Напомним, что эта оценка принадлежит шведскому автору Барфуду.
18
Старая, со времён Ништадтского мира, линия, принятая Петербургом в отношении Швеции.
19
К этому времени Густав III уже произвёл государственный переворот и стал самодержавным монархом.
20
Нолькены на протяжении десятилетий занимали ведущие места в шведском МИДе.
21
В реальности эскадра была задействована в июле для морского сражения со шведами при Гогланде
22
По материалам статьи М.Я.Королькова (1873-не ранее 1917), сотрудника госархива Министерства иностранных дел России, опубликованной в журнале «Голос минувшего» том 10, за октябрь 1916 года.
23
Город в Могилёвской области Республики Беларусь, административный центр Шкловского района, расположен на Днепре в 35 км севернее Могилёва.
24
Это был авантюрист высшей пробы, успевший послужить полковником во французском флоте и в кавалерии и генерал-майором – в испанского флоте, принять участие в кругосветном путешествии Л. А. де Бугенвиля (1766—1769), в 1779 году – повоевать с англичанами в Северной Америке, в 1780—82 гг. попытаться взять штурмом Гибралтар, подружиться с принцем и литератором Пьером де Бомарше и польским королём С. Понятовским, поступить на службу России и в качестве адмирала гребного флота принять участие в войне с турками (матросы дали ему кличку «Пирог и грибы», потому что произносил свои команды на русском языке «вперёд» и «греби» как «пирог» и «грибы») Потом на стороне России воевал со шведами, выиграв 1-е Роченсальмское и проиграв 2-е Роченсальмское сражение.
25
Источник: статья историка Н. К. Шильдера «Император Николай I и Восточный вопрос (1826—1830 гг.)», см. журнал «Русская старина» том 104 за 1900 год.
26
Карло Андреа Поццо-ди-Борго (1764—1842), уроженец Корсики, ярый противник Наполеона, на русской службе с 1805 г. по 1839 г.
27
Англия членом Священного союза не была и относилась к нему отрицательно.
28
Источник: статья историка, журналиста и хорунжего Оренбургского казачьего войска П. Л. Юдина (1864—1928), см. журнал «Русская старина» том СXVI за 1903 год.
29
Тептяри – социальная группа внутри башкир, в переводе с башкирского языка «изгнанные», «отвергнутые».
30
Послушники-ученики в медресе.
31
Мусульманский богослов.
32
Об этих слухах сам муфтий писал оренбургскому губернатору и просил принять меры к пресечению таких слухов.
33
По материалам статьи И. Я. Бутковского «Таинственная экспедиция в Америку в 1878 году», опубликованной в журнале Исторический вестник» том XI за 1883 год.
34
В конце сентября 1863 года эскадра прибыла в Америку, в Нью-Йорк. Главные задачи: оказать моральную и политическую поддержку федеральному правительству Севера (президент А. Линкольн), а также нарушить морские коммуникации Англии и Франции в случае войны этих стран с Россией.
35
В октябре 1876 года отряд русских судов в Средиземном море под командованием контр-адмирала И. И. Бутакова был переведён из Смирны (совр. Измир, Турция) в итальянские порты, а затем отправлен к берегам США
36
Если Степан Степанович, сам автор плана о крейсерской войне с англичанами, был под рукой, в Петербурге, то зачем нужно было тревожить в Вашингтоне Н. П. Шишкина? Либо автор статьи что-то путает, либо… Да, либо в морском министерстве и МИД творился бардак, подтверждением чему была ещё одна «секретная» миссия – посылка генерала Столетова в Кабул буквально в это же время и с той же целью насолить англичанам.
37
Построенный в 1862 г. в Ливерпуле винтовой шлюп «Алабама» по заказу конфедератов осуществил несколько успешных крейсерских операций против торгового флота северных штатов.
38
Значит, идея обсуждалась вполне открыто и стала достоянием общественности.