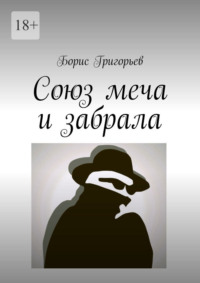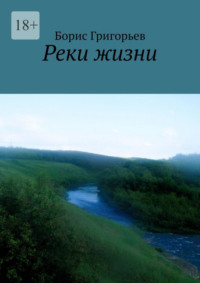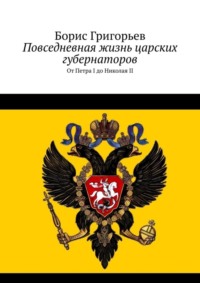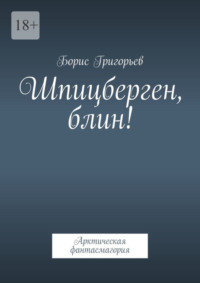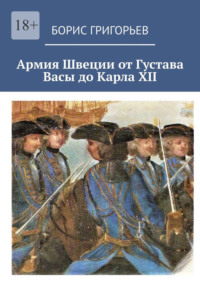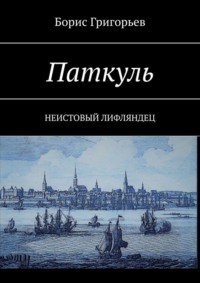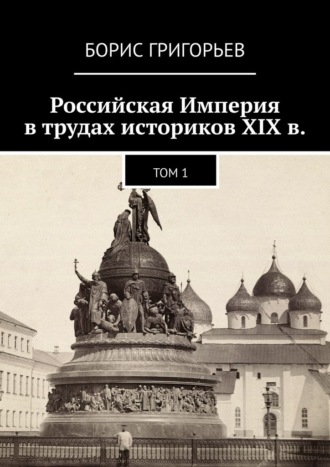
Полная версия
Российская Империя в трудах историков XIX в. Том 1

Русский крейсер «Европа» был в строю с 1878 по 1918 год
«Морской пикник» – такое ироничное название получила описанная выше таинственная экспедиция – закончился. В обществе прозвучала критика действий правительства, затратившего на её организацию непозволительно крупные казённые суммы. Автор статьи, однако, считает, что экспедиция наших моряков сыграла и положительную роль: правительство России убедилось в дружеском расположении правительства США и в случае необходимости могло на американцев рассчитывать и в будущем. Не стоило и преуменьшать значение приращения ВМФ России на целых 4 крупных и современных крейсера.
В качестве постскриптума к своей статье Бутковский приводит сообщение о неожиданной гибели «Цимбрии» вместе с 400 пассажирами на борту в результате несчастного случая. Капитана Баденхаузена на «Цимбрии» уже не было.
Наш комментарий
Идея воздействовать на позицию англичан ввиду предстоящего Берлинского конгресса была вполне здравой и реальной. Только времени на претворение этой идеи в жизнь было отпущено слишком мало. Тем не менее, практическая деятельность Л. П. Семечкина и его команды достойна всякого восхищения и даже удивления. Такие люди и являются солью Русской Земли. Жаль, что этот человек канул в Лету забвения.
Добавление к информации о гибели «Цимбрии»: несчастный случай в январе 1883 года «организовало» английское судно «Султан», протаранившее «Цимбрию» с левого борта. Спаслись всего 65 человек, погибло 457 человек – эмигранты из России, Австро-Венгрии и Пруссии, плывшие в США.
Часть вторая Дипломатия
Глава 1. Как гонец Шавригин Ивана Грозного обманывал39
Всему причиной явилась неудачная война России с Польшей.
В 1579 году польский король Стефан Баторий предпринял три успешных похода против России, которые привели Ивана Грозного в состояние растерянности и уныния. Россия потеряла несколько городов, а войско царя было сильно расстроено. В этой ситуации Грозный был вынужден просить папу Григория XIII о том, чтобы он уговорил Батория прекратить войну и заключить с Москвой мир.
Баторий отнюдь не был настроен на мир с Грозным, но потом и ему удача на поле боя перестала сопутствовать, что и заставило его прислушаться к мирным увещеваниям папы. Уполномоченные России и Польши съехались в захолустном русском городке Запольском Яме и 6 (15) января подписали перемирие на 10 лет.
Такова общая картина, на фоне которой и действовали русский гонец Шавригин, иезуит Поссевин, венецианский дож, папа Григорий XIII и некоторые другие лица.

Григорий XIII (лат. Gregorius PP. XIII; в миру Уго Бонкомпаньи)
…16 (25) августа 1580 года Иван Грозный в мрачном дворце Александровской Слободы созвал совет. На обсуждение был поставлен один вопрос: что делать? Великим Лукам грозила судьба Полоцка и Сокола, взятых приступом войском Батория в первом его походе в предыдущем году. С падением Великих Лук возникала опасность вторжения поляков вглубь России. Но не одни поляки представляли опасность: после поражения зашевелились шведы и предъявили права на Эстляндию; Дания тяготилась заключённым в 1578 году перемирием и в любое время могла снова начать военные действия; судьбе Астрахани и Казани угрожали крымские татары, за спиной которых развевалось грозное знамя османов.
Среди советников царя уже не было талантливых полководцев и государственных деятелей, а потому, пишет Пирлинг, их настроение не было воинственным – они все склонялись к миру. В итоге царь решился на не виданный доселе шаг – объявить себя заклятым врагом турок и побудить Ватикан и Священную Римскую империю к объявлению крестового похода на османов. Но для этого нужно было склонить короля Польши к миру. Царь считал, что идея крестового похода затмит все другие, польский вопрос утратил бы своё значение, Москва приобретала симпатии папы Григория XIII и австрийского императора Рудольфа II. Габсбурги всегда мечтали о включении в свою империю Венгрии, в которой уже 25 санджаков принадлежали туркам, и могли только приветствовать появление нового союзника в лице России. А Ватикан никогда не отказывался нанести поражение мусульманам и тоже не отказался бы от помощи Москвы, а значит был заинтересован замирить Грозного с Баторием.
Таков был тонкий и хитрый дипломатический ход Ивана Грозного.
Для него главным было нейтрализовать Польшу, для чего он уже направил с предложением мира и своим любезным письмом к Баторию послов, которым строго-настрого наказал проявлять терпение, сносить возможные упрёки и оскорбления поляков и ни в коем случае с ними «не лаяться». После этого можно было засылать послов к императору в Прагу и к папе в Рим, что и было решено на совете в Слободе 28 августа (6 сентября) 1580 года.
Снаряжать большое и представительное посольство было делом дорогим и требующим много времени на его подготовку, поэтому Грозный решил послать обычного гонца Шавригина, типичного представителя служилых людей старого закала. «Изворотливый, грубый, алчный до наживы, в высшей степени хитрый и коварный, но одарённый в достаточной степени здравым смыслом, чтобы исполнить рабски приказания своего монарха и понять практическую сторону дела» – таким представляет нам Павел Осипович40 посланца Грозного. Царь напутствовал его такой незатейливой рекомендацией: если его остановят в пути и станут допрашивать, то он должен был «плюнуть тем, кто будет говорить с ним, в глаза, не говоря ни слова».
Шавригин иностранными языками не владел, поэтому с ним отправили переводчиком ливонского литовца Вильгельма Поплера, католика, перешедшего в лютеранство, а потом и в православие. В Любеке к ним присоединился второй переводчик миланец Франческо Паллавичини, торговавший ранее в Москве и превратившийся в дипломата. Компания, скажем честно, подобралась явно с названием «гоп»: переводчики ненавидели друг друга, но объединились против ненавистного им Шавригина, которому не стеснялись высказывать свои ядовитые шутки в лицо.
В начале января 1581 года Шавригин приехал в Прагу.
Император Рудольф неохотно отрывался от своих научных занятий, предоставляя решать все дела своим министрам, но русскому гонцу решил дать аудиенцию. Согласно наказу, Шавригин должен был передать императору два письма Грозного и сорок соболей. Говорить что-либо о цели своей миссии гонцу приказано не было – всё содержалось в письмах.
Грозный рассыпался в комплиментах и уверениях о дружбе с Рудольфом, призывал его вместе ополчиться на турок, но главное – повлиять на Батория, без которого крестовый поход против басурманов был невозможен. Царь писал о незаконном занятии трона Ягеллонов Баторием, который он получил с помощью турецкого султана, и в данном случае царь мог рассчитывать на положительную реакцию Рудольфа. Но вот просьба Грозного посодействовать в удержании за собой Ливонии вряд ли могла понравиться императору, потому что он тоже лелеял планы приобщить Ливонию к своей империи.
Во втором письме Грозный просил Рудольфа отменить запретительные меры в отношении русских купцов и предлагал всячески развивать обоюдную торговлю.
Шавригин получил вскоре ответное письмо императора царю, в котором Турция и Польша не упоминались вообще, о Ливонии говорилось сдержанно, а в торговле никаких перемен в пользу русских купцов не предполагалось. Таким образом, первый дипломатический ход Грозного ожидаемых результатов не возымел. В Праге поняли, что главная цель Грозного состояла в достижении мира с Польшей, в чём имперцы не были особенно заинтересованы.
Далее Шавригин установил контакт с венецианским посланником Бадоером и запросил паспорт для въезда в Венецианскую республику для вручения царского письма её правителям. Бадоер поспешил удовлетворить просьбу Шавригина. Неожиданно переводчик Паллавичини сообщил посланнику некоторые любопытные вещи, заставившие его задуматься. Итальянец рассказал об истинных целях посольства Шавригина, о планах царя установить торговые отношения с Австрией и о том, как Грозный бросил в тюрьму турецкого посланника, приехавшего по приказанию султана узнать по поводу завоевания Москвой Казани и Астрахани. Он также поведал Бадоеру о том, что Грозный разослал гонцов к европейским монархам с предложением организовать союз против турок.
В начале февраля Шавригин приехал в Венецию.
Он поселился в скромном домике одной венецианки, как вдруг его попросили переселиться в великолепные апартаменты монастыря Санто-Джиованни и Паоло. Такое внимание властей оказалось для скромного московского гонца неожиданностью, но он постарался скрыть её. Известие о прибытии гонца русского царя возбудило любопытство самого дожа Николо да-Понте, и 15 февраля Шавригин был торжественно принят им в своём дворце в зале иезуитской коллегии. Несмотря на неоднократное приглашение сесть, гонец продолжал стоять с непокрытой головой и с помощью своих переводчиков сказал речь. Сначала она переводилась на немецкий язык Поплером, а Паллавичини переводил уже с немецкого на итальянский.

Николо да-Понте, 87-й дож Венеции (1491 – 1585)
– Иностранные языки изгнаны из Москвы, – говорил Шавригин, – так как царь боялся бы измены, если бы он не мог понимать своих подданных.
Поскольку постоянные отношения с Италией у Москвы отсутствовали, продолжал фантазировать наш герой, то в Посольском приказе сведений о титуле правителя Венеции не сохранилось. Поэтому он извинялся за то, что не знает, как следовало обращаться к дожу. А саму Венецию в Москве якобы считали владением папы, что и объясняло обращение Грозного к папе римскому с предложением союза против турок.
Шавригин говорил также о заинтересованности царя в торговле с Венецией и предлагал венецианским купцам пользоваться торговыми путями через Каспийское море и Волгу. Вопрос о путях проезда купцов в Москву обсуждался дважды, но толку от этого не было, потому что венецианцы обнаружили, что представления о географии у московских гостей были самые расплывчатые. Тем не менее, Николо да-Понте пообещал обсудить вопрос о торговле с Москвой на совете и в ближайшее время дать ответ на письмо царя.
И тут при переводе вручённого дожу письма возникло нечто необыкновенное.
Секретарь дожа Франческо решил досконально узнать о целях миссии Шавригина и начал его расспрашивать. Гонец и его помощники повторили уже известную версию о кровожадности Батория, о великодушии Грозного, изъявившего готовность бороться с турками и выставить для этого 100-тысячное войско. Франческо терпеливо выслушивал эти объяснения, как вдруг несколько необдуманных слов, произнесенных Шавригиным, раскрыли хитрому венецианцу истинное положение Грозного. Он понял, что за всеми словами скрывается главная суть дипломатии царя – заключить мир с Польшей.
Но поняв это, Франческо не мог себе объяснить другое обстоятельство: если царь поручил передать письмо дожу, то как же Шавригин мог утверждать, что ему не известен его титул? Не мог же Грозный обращаться к иностранным владетелям, не зная хорошенько, что они из себя изображали! Эта несообразность могла объясняться лишь тем, что письмо, переданное Шавригиным дожу, было не настоящим, а подложным.
Оставим Франческо одного со своими раздумьями, забежим на пару месяцев вперёд и переместимся в Рим. В апреле 1581 года, когда папа поручил проживавшему в Венеции иезуиту Поссевину проводить русских посланцев в Москву, последний оказался свидетелем бурной сцены, разыгравшейся между Шавригиным и Паллавичини. Гонец обвинял переводчика в воровстве, а тот, выйдя из себя, воскликнул:
– Так вот как ты обращаешься со мною, наняв меня за несколько рублей! Дай мне только приехать в Москву, я донесу на тебя царю. Все узнают, что ты сочинял подложные письма для венецианцев.
Поссевин занялся расследованием и убедился в том, что Шавригин в надежде на богатые подарки венецианцев и в самом деле сам сочинил и написал письмо дожу, скрепив его печатью, снятой с письма курфюрсту Саксонии (кроме писем к императору и папе, Шавригин по отъезде из Москвы получил т. н. охранные листы или опасные грамоты к датскому королю и саксонскому курфюрсту). Представленный везде, в том числе и в Праге, как обычный гонец, Шавригин в своём письме к дожу упоминает о себе 5 раз как о посланнике царя. О результатах расследования Поссевин немедленно сообщил в Ватикан, присовокупив, что письма царя к папе настоящие.
Паллавичини потом странным образом исчез, и Поссевин предполагает, что Шавригин по пути домой по всей вероятности убил бедного переводчика. Ответное письмо дожа Грозному служило серьёзным обличающим материалом, и Шавригин постарался от него тоже избавиться. Он объяснил потом в Москве, что послал его с гонцом, которого якобы ограбили и письмо пропало. Хитрец рассказал царю, что Венеция стоит на воде и является самостоятельным государством. Что касается возбуждения вопроса о торговле с Венецией, то инициативу в нём Шавригин приписал Поссевину. В Москве в эту версию поверили, пишет Пирлинг, но вернёмся вместе с Павлом Осиповичем в февраль 1581 года.
24 февраля Шавригин въехал в Рим.
Русские давно не переступали порога Вечного Города, и появление московского гонца вызвало у римлян большое любопытство. Ему был оказан более торжественный приём, нежели простому гонцу: за городом его встретили две депутации и папский экипаж в сопровождении блестящей свиты. Его поселили во дворец на площади Двенадцати Апостолов, где его принял Джиакомо Бонкомпаньи, начальник папского войска и угостил многочисленными кушаньями, которые, по словам Шавригина, были и обильными, и вкусными. Такое угощение подавалось ему два раза в день в строго определённые часы.
17 (26) августа папа дал ему т. н. частную аудиенцию. Представитель Польши в Ватикане епископ Пётр Вольский настаивал на том, чтобы аудиенция была обставлена как можно проще. Шавригин произнёс свою речь, стоя на коленях, и поцеловал туфлю Григорию III, чего до него никто из русских дипломатов делать не соглашался. Впрочем, Шавригин в своём отчёте об этом не упомянул, а сообщил только, что просил папу отправить посольство в Москву.
На следующий день папа созвал консисторию и объявил её членам содержание письма Грозного. Оно мало чем отличалось от письма, которое получил Рудольф II: предложение о походе на турок («стоит только протянуть руку, и общими усилиями ислам будет побеждён») и воздействие на Батория с целью заключения мира. Грозный ссылался на плодотворные контакты своего отца Василия III с Ватиканом, просил папу известить его о решении насчёт похода против османов, но ни словом не упомянул о религии, чем разочаровал кардиналов. Впрочем, кардиналы надеялись на будущее и присоветовали папе Григорию послать посольство в Москву. Об этом своём решении папа сообщил кардиналам 6 марта.
На роль посла папа выбрал иезуита Поссевина, обладавшего всеми необходимыми для этой роди качествами: выдающийся ум, обширные познания, наблюдательность, опыт, дипломатические способности, вкрадчивый характер и умение ладить с людьми. Со своей стороны заметим, что выбор папы и в самом деле был очень удачным, потому что всеми этими качествами Поссевин обладал в достаточном объёме. П. А. Пирлинг отмечает в нём только один недостаток: чрезмерное увлечение делом и желание решать и действовать, не обращая внимания на своих помощников и советников.
Шавригин пробыл в Риме довольно долго – до Пасхи. Павел Осипович пишет, что «культурная программа» мало интересовала гонца – он больше думал о том, какие получит подарки при отъезде. Золотая цепь и кошелёк с 60 экю, по наблюдениям венецианского посланника, всё время следившего за Шавригиным, вроде бы удовлетворили гонца, но скоро все убедились, что его алчность нельзя было удовлетворить ничем.
18 (27) марта русское посольство покинуло Рим. По приказанию папы ему на всём пути в Италии оказывалась честь, устраивались встречи, приёмы и угощения со стороны властей. Вместе с русскими в далёкий путь отправился и папский посол Поссевин. По пути они снова заехали в Венецию, где Поссевин рассказал дожу о своей миссии в Москву и о желании русского царя воевать с османами. Эта весть была положительно воспринята Николо да-Понте, 9 (18) апреля Поссевина и Шавригина пригласили в иезуитскую коллегию, где русскому гонцу было вручено письмо дожа Грозному с золотой печатью, а самому Шавригину подарена золотая цепь с изображением св. Марка стоимостью 500 экю. Подарок Поплеру стоил в 5 раз меньше.
В Венеции Поссевин предпринял ловкий и коварный ход, поставивший Шавригина в полную от него зависимость. Он заставил его под диктовку написать письмо царю, а копию с него оставил у себя. В этом письме Шавригин упомянул о том, что от имени Грозного вручил письмо венецианскому дожу. Чтобы обезопасить себя, он безуспешно пытался потом забрать у иезуита копию письма и, кажется, уничтожил ответное письмо дожа, так что факт его самоличной дипломатии вроде бы не всплыл потом в Москве. Сам Поссевин не испытывал ни малейшего укора совести из-за своего поступка, потому что вволю насмотрелся на поведение троих московских дипломатов, особенно Шавригина и Поплера, отвечавших оскорблениями на оказанное им гостеприимство и намеревавшихся продать свои золотые цепи, полученные в подарок от папы.
Поплер постоянно просил Поссевина одолжить ему денег и был чрезвычайно болтлив, что позволило иезуиту получить интересную информацию о положении московского государства: об опустошительном набеге крымских татар на Москву в 1571 году и об унизительном мире Грозного с Девлет-Гиреем, о страхе, испытываемом царём и перед татарами, и перед поляками, об отсутствии рядом с царём верных советников и т. п.
Поссевин задержался на несколько дней в Вене, а Шавригин с переводчиками продолжили путь одни. Отделавшись от надзора иезуита, дипломаты предались весёлому образу жизни. Случайно в одном экипаже с ними оказалась красивая австриячка, из-за которой у московских кавалеров разгорелся спор. Паллавичини, выхватив шпагу, набросился на Шавригина, в то время как Поплер стал защищать своего начальника. Итальянец был ранен, и его пришлось оставить на попечение сельского священника в 26 верстах от Вены.
Поссевин не поверил этой истории и заподозрил, что её придумал Шавригин, чтобы избавиться от Паллавичини, который мог разоблачить в Москве самовольную дипломатию гонца в Венеции. Скорая смерть Паллавичини только подтвердила эту загадку. В Праге все они соединились вместе, а Шавригин написал боярину Никите Романову и думному дьяку Щелкалову уведомление о прибытии в Москву папского посла. Вёл себя гонец ниже травы и тише воды, что также было подмечено Поссевиным.
От венгерского канцлера Пернштейна Поссевин узнал, что австрийцы были не в восторге от предложения Грозного «воевать вместе турка» – у них были другие заботы. Император не принял Поссевина, слишком занятый своими астрономическими наблюдениями. Поссевин был сильно разочарован этим, потому что заехал в Прагу именно в расчете побеседовать с Рудольфом.
Из Праги Шавригин, избегая Польши, снова отправился на Любек, а Поссевин, наоборот, взял путь на Варшаву, где должен был уговаривать Батория прекратить войну с Москвой. Баторий в это время осаждал Великие Луки, и война с русскими свирепствовала со всей своей кровожадностью. К призывам папы Григория III о мире король относился с недоверием, тем более что поляки пока одерживали верх над русскими.
Король внимательно и с подозрением следил за контактами Москвы с Ватиканом и за всеми передвижениями Шавригина. Узнав о том, что русский гонец из Праги отправился в Любек, Баторий отдал приказ перехватить его, но не успел.
Посреднические действия Поссевина и его первые шаги в этом направлении представляют уже иную историю, выходящую за рамки избранной нами темы.
А Шавригин благополучно вернулся в Москву, отдал о своих действиях полный отчёт Грозному и исчез из поля зрения историков.
Наш комментарий. История, которую поведал нам специалист по делам Ватикана Павел Осипович Пирлинг, так и просится на страницы какого-нибудь авантюрного романа. Но пусть наш читатель не сомневается – Пирлинг все свои труды основывает на документах и авантюрных романов не писал. В данном случае он опирается на архив известного иезуита Антонио Поссевина (1533—1611), деятельного участника описываемых здесь событий.
История постоянно «подкидывает» нам головокружительные сюжеты.

Портрет Антонио Поссевино (Поссевина) из «Иллюстрированной галереи иезуитов» Альфреда Хами (1893)
Глава 2. Россия в Тридцатилетней войне41
О русском факторе в Тридцатилетней войне и в отечественной, и зарубежной исторической литературе не говорилось вообще, а если и упоминалось, то мимоходом и вскользь. Только швед Д. Норрман и советский историк Б. Ф. Поршнев впервые указали на то влияние, которое русское государство оказывало на ход этой войны, подробно раскрыли содержание русско-шведских отношений в 1629—1632 гг. и политику правительства царя Михаила Фёдоровича по отношению к противоборствующим сторонам.
Большинству историков, включая и русских, Тридцатилетняя война в Германии и Смоленская война в России 1632 года казались явлениями обособленными, никоим образом друг на друга не влиявшими, и только Норманн и Поршнев, опираясь на уникальные архивные материалы, самостоятельно пришли к одному и тому же выводу о том, что Москва была вовлечена в события Тридцатилетней войны и сыграла значительную роль в осуществлении планов короля Густава II Адольфа в Германии. Труды Поршнева и Норрмана в этой главе дополнили друг друга и составили впечатляющую картину начавшегося русско-шведского сближения, которому, к сожалению, не суждено было оформиться в полноценный антипольский и антигабсбургский союз.

Густав II Адольф (1594 – 1632)
Б. Ф. Поршнев пришёл к сенсационному выводу о том, что Москва фактически спонсировала поход Густава Адольфа в Германию. Все историки до него сходились в мнении, что шведы воевали на деньги, полученные из Франции и Голландии, потому что о самостоятельном ведении войны Швеция с её бедными ресурсами и неразвитыми формами экономики не могла и помышлять. Наш историк подсчитал, что продаваемое шведам в течение 6 лет русское зерно, сбытое на амстердамском рынке, дало правительству Швеции прибыль, сравнимую лишь с военными субсидиями Франции. В одном только 1630 году эта товарная помощь составила эквивалент суммы в 1 млн. 200 тысяч риксталеров, что позволило Густаву Адольфу организовать высадку в Померании и ринуться на выручку германских протестантов. Эта помощь хлебом продолжалась до самого 1634 года, и её прекращение не замедлило неблагоприятно сказаться на военных успехах Швеции.
Москва в конце правления короля Густава занимала в его внешнеполитических планах, конечно, не первое, но и не последнее место. Идея втянуть Россию в орбиту своей политики, в частности, в войну с Польшей возникла у Густава Адольфа очевидно ещё в 1625 году. Тогда канцлер Оксеншерна получил донесение из Москвы о том, что некоторые бояре потребовали от царя «порушить» несправедливый мир с польским королём Сигизмундом и выступить против Польши войной. В начале 1626 года король Густав дал указание отправить в Москву для переговоров ревельских штаттхальтеров Бремена и Унгерна. Послам поручалось объяснить, что война Швеции с Польшей равнозначна войне с Германской империей, стоящей за спиной Польши. Если это объяснение будет воспринято положительно, то послы должны были детально ознакомить царя Михаила с намерениями Габсбургского дома и указать ему на опасность, которая угрожала Москве от планов Вены и Мадрида. По логике короля Густава, Россия должна была примкнуть к антигабсбургскому лагерю и стать союзницей Швеции.
Первый Романов воспринял миссию шведских послов благожелательно, но в послании Густаву Адольфу дал половинчатый ответ, заявив о том, что войну с Польшей учинить невозможно ввиду Деулинского перемирия. Впрочем, царь заверял короля, что если поляки станут «чинить ему неправду», то тогда он снесётся с ним по этому вопросу. Осторожность Москвы по отношению к своему бывшему противнику была вполне объяснима – слишком свежи ещё были обиды от войны со шведами и Столбовского несправедливого мира, поэтому предложения Бремена и Унгерна поднять против поляков татар и запорожцев было дипломатично отклонено со ссылкой на той же Деулинское перемирие.