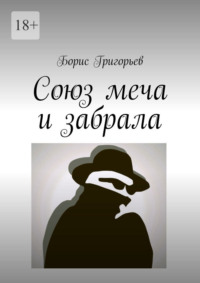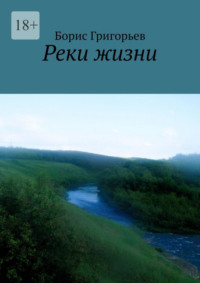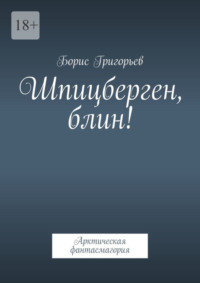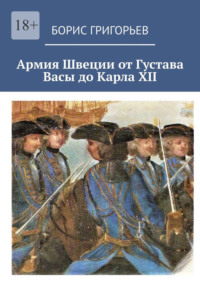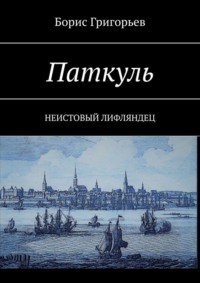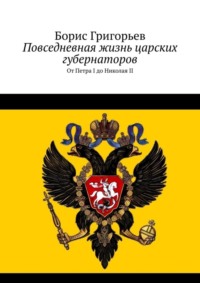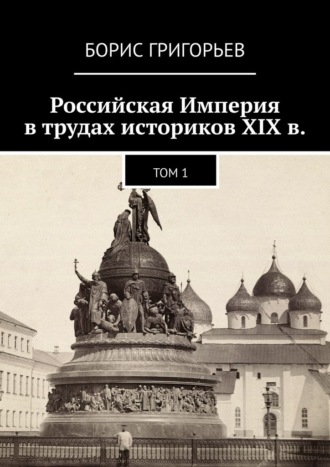
Полная версия
Российская Империя в трудах историков XIX в. Том 1
В конце своей статье А. Г. Брикнер рассматривает позиции европейских стран по вопросу о признании за Петром I императорского титула. (Нынешний читатель должен понимать, что речь в данном случае шла не о простом украшении царя новым званием, а о статусе российского государства и о его авторитете на международной арене). Брикнер справедливо считал, что результатом Северной войны стало превращение Московского царства в Российскую империю. Де факто это так и было, но Европа в официальных документах продолжала называть нас Московией. Предстояла долгая и тяжкая борьба за признание названия страны Российской империей де юре.
Пруссия и Нидерланды признали за Петром императорский титул сразу.
В Австрии к этому вопросу подошли иначе. Посланник Петра в Вене Ланчинский докладывал, что при сообщении им императору Карлу VI известия о принятии Петром в 1721 году титула императора тот пробормотал скороговоркой что-то совсем невнятное, и Ланчинский переспросить его не решился. Очевидно, от неожиданности слова застряли у австрийца в горле. Вице-канцлер Австрии всё отговаривался тем, что ещё не переговорил по этому вопросу с кесарем. Другие члены австрийского правительства просто отмалчивались. Наиболее умные пускались в разъяснения о том, что вслед за Петром императорского титула станут требовать англичане и другие государи, так что значение титула умалится. В 1721 году цесарский двор продолжал слать в Петербург ноты с употреблением старого царского титула.
Во Франции регент сказал посланнику Долгорукову, что если бы дело зависело только от него, он бы сразу признал Петра императором, но «дело такой важности, что следовало подумать».
В Польше тоже колебались и думали. Паны опасались, что титул императора повлечёт за собой претензии Петра на русские земли, входившие в состав Речи Посполитой.
В Дании соглашались признать за Петром титул императора только при гарантии безопасности Шлезвига, т. е. захваченной ею во время войны Голштинии и удаления из России голштинского герцога.
В числе аргументов в пользу признания за русским царём императорского титула Москва приводила письмо императора Максимилиана I московскому князю Василию Ивановичу, в котором князь назывался императором. В Европе сразу же появилась брошюра, доказывающая, что письмо кесаря было подложным. В другой брошюре утверждалось, что императорский титул Петра нанесёт ущерб достоинству германского императора и других европейских государей.
Так что процесс признания за государём России растянулся на десятилетия: в 1723 году титул признала Швеция, в 1739 году – Турция (на троне уже была Анна Иоановна), в 1742 году – Австрия и Англия, в 1745 году – Франция и Италия (признание непосредственно коснулось уже Елизаветы Петровны), и только в 1764 году – Польша (это сделал под большим нажимом Екатерины II её бывший любовник и король Станислав Понятовский).
Многие в Европе питали надежду на то, что после Петра на российском троне появятся другие лица, что и лишит Россию прежнего государственного значения. Ещё при жизни Петра сначала в Польше, а потом и в других странах Европы стал распространяться слух о его смерти. Посланник в Стокгольме М. П. Бестужев докладывал уже Екатерине I о том, что король Швеции и его «партизаны» были от этих известий в «немалой радости». А его брат, посланник в Копенгагене А. П. Бестужев, писал: «…Из первых при дворе яко генерально и все подлые с радости опилися было». Только прусский король Фридрих-Вильгельм I на кончину Петра I откликнулся о нём словами «дражайший друг» и объявил в Потсдаме 3-х месячный траур, тогда как траур по другим государям длился 6 недель. Когда его посланник в Петербурге Мардефельд запросил Фридриха-Вильгельма, какой траур ему соблюдать, король ответил: «Как по мне».
Наш комментарий. История повторяется, но часто уже в виде фарса. Вот и теперь, мы видим отчаянные потуги коллективного Запада умалить достоинство России и её истории, уничтожить нашу государственность. Часто их действия выглядят как откровенный фарс или пародия на государственную деятельность. Ничего не поделаешь: мельчает народишко. А обрусевший немец Александр Густавович Брикнер оставил нам пример честного патриотического подхода к русской истории, за что мы ему должны быть благодарны.

Александр Густавович Брикнер (1834—1896)
Глава 5. Павел I и Витворт14
Чарльз 1-й Уитворт (Витворт) (1752—1825), чрезвычайный и полномочный посланник Великобритании в России в 1788—1800 гг., известен в нашей истории как человек, организовавший убийство или причастный к покушению на императора Павла I.
Автор материала Василий Никифорович Александренко (1861—1909) – юрист, историк и профессор Варшавского университета.

Charles Whitworth, 1st Earl Whitworth
Сравнивая политику России при Павле I с политикой Англии, Александренко пишет, что Россия в это время постепенно втянулась в борьбу за чуждые ей интересы, в то время как Англия осталась в русле своей традиционной линии, обеспечивающей соблюдение интересов собственных. Мнение это, на наш взгляд, спорное. Уж если и считать в качестве вины или ошибки России борьбу за чуждые интересы, то этим особенно отличился после 1812 года сын Павла император Александр Благословенный.
Как бы то ни было, английский посол в Петербурге Ч. Витворт в высшей степени символизировал политику своей страны. Человек умный и способный, он за 12 лет пребывания в России хорошо изучил страну, её элиту и досконально представлял себе политику Екатерины II и Павла, дворцовые интриги и людей, приводящих в движение потаённые пружины этой политики. Официально об этом нигде не говорится, но Витворт, если и не принадлежал к английской разведке, то вполне мог выполнять её задания.
Он подробно, с указанием мельчайших деталей, сообщил обстоятельства смерти Екатерины и восшествия на трон Пала I, но в связи с резким отказом императора от курса, проводимого матерью, Витворт на первых порах стал испытывать определённые трудности в добывании информации. С графом Безбородко, которого новый император оставил у дел, связанных с внешней политикой, Чарльз Витворт поддерживал официальные отношения. Доверительную же информацию он черпал из дружеских связей с вице-канцлером и другом детства Павла князем Александром Борисовичем Куракиным (1752—1818), с любовницей Павла Екатериной Ивановной Нелидовой (1756—1839), с членом КИД графом Никитой Петровичем Паниным (1770—1837) и со своей любовницей Ольгой Александровной Жеребцовой (1765—1849).
При заключении торговой конвенции с Россией Витворт подарил Е. И. Нелидовой, прослывшей в нашей истории бессребреницей и нестяжательницей, якобы не бравшей за свои услуги ни денег, ни подарков, 30 тысяч рублей. Какую сумму получил Витворт на подкуп русских деятелей, нам не известно. Укажем для примера, что его предшественник на этом посту Кейт в своё время получил 100 тысяч фунтов стерлингов.

Император Павел I
В первые годы правления Павла Витворт пользовался его благосклонным вниманием, о чём, например, свидетельствует удовлетворение императором просьбы посла об оказании оставшемуся без средств существования герцогу де Полиньяку: герцог получил в потомственное владение имение, приносящее доход около 10 тысяч рублей в год. В конце 1798 года Павел, игнорируя возражения Лондона, наградил Витворта большим крестом Мальтийского ордена и даже обсуждал с ним планы борьбы с Францией.
Но через год в Петербурге уже знали, что Витворт оказался в опале, и что Павел 1 февраля 1800 года потребовал от Лондона отозвать его и назначить вместо него нового посла, дабы «избегнуть неприятных последствий, какие могут произойти от дальнейшего пребывания лживых министров». Лживость Витворта, по предположению Александренко, заключалась в том, что Павлу удалось узнать, что тот в своих депешах в Лондон мрачными красками рисовал его душевное состояние. Как бы то ни было, император потребовал от своего посла в Лондоне С. Р. Воронцова (1744—1832) повлиять на английское правительство, с тем чтобы оно ускорило направление замены Витворту.
В начале мая 1800 года Витворт уже стал опасаться за свою безопасность, складывал вещи в сундук, отбирал нужные и уничтожал компрометирующие документы, готовясь к отъезду. 13 мая Павел приказал руководителю внешними делами Ф. В. Ростопчину (1763—1826) сказать Витворту, что он может ехать. Англичанин попросил назначить поверенным в своих делах секретаря Касамэджора и поучил на это разрешение. 24 мая (4 июня) он получил категорическое повеление императора на выезд.
Опале подвергся и посол С. Р. Воронцов, началась чехарда в русском посольстве в Лондоне. Павел был недоволен его проволочками с замещением Витворта и предложил ему «просить увольнения со службы с ношением мундира». Об этом Семён Романович узнал из письма Ростопчина, в котором Фёдор Васильевич орошал слезами руки адресата и предлагал плакать вместе: «Делать нечего». Воронцов в начале мая 1800 года представил английскому королю Георгу III поверенного в своих делах д. с. с. В. Г. Лизакевича (1737—1815), которому и вручил на хранение посольский архив.
Но и Лизакевич не задержался в туманном Альбионе. 17 (28) сентября в посольство прибыл курьер от Ростопчина с уведомлением о наложении 28 августа правительством ареста имущества англичан в России и рекомендацией немедленно покинуть Англию. Лизакевич, не теряя времени, занял в банке 250 ф. ст., сделал себе паспорт на вымышленную фамилию и на другой же день 18 (29) сентября выехал в Ярмут и исчез из поля зрения англичан, взойдя на борт корабля, отправлявшегося в Данию. Архив и все дела посольства он оставил на …священника посольской церкви Я. И. Смирнова, (1759—1840), в миру Линицкого, который должен был легендировать отъезд Лизакевича поездкой деревню.
Чтобы упрочить положение Якова Ивановича, Павел издал 29 сентября соответствующий рескрипт. Конечно, де юре он не был признан англичанами в качестве поверенного в делах, и отношения между Англией и Россией были прерваны, но де факто Смирнов исправно исполнял обязанности главы дипломатической миссии. Англичане установили за ним плотное наблюдение, так что он не мог сделать без их контроля ни одного шага. «Если двинусь – посадят в тюрьму», – жаловался он своему покровителю С. Р. Воронцову15.
Ещё до разрыва дипломатических отношений, после поражения 1 августа 1798 года французского флота при Абукире, англичане объявили России, Дании и некоторым другим странам торговую войну и стали разбойничать на морях, не обращая внимания на нейтральные флаги. Так что меры Павла в отношении англичан в 1800 году носили фактически ответный характер. После разбойничего нападения 13 (25) июля 1800 года английского флота на датское судно «Фрейя» Копенгаген обратился за помощью в Петербург. Паве поставил условием, чтобы Дания вместе со Швецией и Пруссией присоединилась к антианглийской лиге. В августе Н. И. Панин сочинил манифест о восстановлении вооружённого нейтралитета и направил его дворам указанных стран. К декабрю 1800 года соответствующая конвенция между Россией, Данией, Швецией и Пруссией была подписана.
Арест английского имущества и эмбарго на поставку английских товаров в Россию сильно всполошило английскую колонию Петербурга. 25 августа полиция посетила англичан на дому и предложила им явиться к военному губернатору Петербурга генералу Н. С. Свечину. В назначенный час в канцелярии Свечина собралось 50 англичан во главе с консулом Александром Шерпом. Им было предложено оценить своё имущество и сообщить о том, кто из русских и сколько был должен каждому из них. Такие сведения к 28 августа представили не все англичане, и тогда полиция изъяла у них торговые книги. Власти затеяли было объяснение с Шерпом, но неожиданно Свечин послал консулу уведомление, что эмбарго отменяется, и торговые отношения с Англией возобновляется. Судя по всему, Павел поторопился с эмбарго, потому что Россия испытывала острую нужду в английских товарах, и решил воздействовать на Лондон с помощью упомянутой выше конвенции.
Но англичане продолжали действовать силой, и 5 сентября 1800 года заняли Валетту. На Павла это известие подействовало как красная тряпка на быка – ведь он был великим магистром Мальтийского ордена. Ответом императора послужило новое эмбарго на английские товары, объявленное 23 октября. 19 ноября последовал указ, запрещающий вход английских кораблей в русские порты, а 22 ноября Петербург постановил прекратить выплату англичанам долгов. Английские суда в Кронштадте были задержаны, а матросов и капитанов с них стали отправлять в Тверь, Смоленск и др. города.
Павел, как известно, стал сближаться с Наполеоном и порекомендовал морскому министру маркизу Ж. Б. Траверсе (1754—1831) укреплять Кронштадт, Рочесальм и др. морские крепости и к весне готовиться к войне с англичанами. Воинственные антианглийские рескрипты были направлены русским послам. Но главное – Павел вместе с Наполеоном стал готовить поход в Индию и в январе 1801 года завязал с ним переписку
«Озлобление англичан против России и раздражение английских государственных людей, вызванное политической системой Павла, – пишет Александренко, – казалось, не знали границ». 4 декабря 1800 года лорд Гренвилл прекратил исполнение обязанностей генерального консула Бакстера, русского подданного, в России. 14 января Лондон ввёл эмбарго на торговлю с Данией и Швецией. 18 февраля (12 марта) в Балтийское море вышла объединённая эскадра Нельсона и Паркера с намерением наказать датчан и шведов и уничтожить Балтийский флот в Кронштадте.
Но «неожиданная» кончина императора Павла, пишет Александренко, предотвратила дальнейшее осложнение отношений между Россией и Англией. (Так было принято писать в России по поводу убийства императора Павла в царской России).
Между тем содержание цитируемой нами статьи Александренко не оставляет сомнений в том, кому было выгодно устранение Павла в марте 1801 года, и кто мог выступить главным организатором этой преступной акции.
Глава 6. К истории русско-шведской войны 1788 года16
О своей подготовке к войне с Россией король Швеции Густав III сообщил датскому посланнику в Стокгольме графу Ревентлову, а тот конфиденциально сообщил об этом русскому коллеге графу А. К. Разумовскому.
Андрей Кириллович среагировал незамедлительно: 5 (16) июня 1788 года он подал королю резкую и оскорбительную17 ноту, в которой напомнил королю о том, что он – монарх конституционный, что власть его ограничена риксдагом, и что Россия враждебного чувства к шведскому народу не испытывает. Таким образом, Разумовский как бы отделил агрессивного короля от дружелюбного народа18.
12 (23) июня министр иностранных дел граф Оксеншерна в ответной ноте заявил, что Разумовский уже не может исполнять обязанности посла России и должен покинуть Швецию. Разумовский ответил, что без приказа Екатерины II он не сдвинется с места. И не сдвинулся. Не допущенный более ко двору, он гулял по улицам Стокгольма, видел приготовления шведов к войне, вежливо разговаривал с офицерами и «нарочно стал показываться на гульбищах и в других местах, где собиралась публика».

Андрей Кириллович Разумовский – чрезвычайный посланник и полномочный министр России в Королевстве обеих Сицилий (1777—1784), Дании (1784—1786), Швеции (1786—1788), Священной Римской империи (с 1806 Австрийской империи) (1790—1799 и вновь в 1801—1807).
Начались уже боевые действия, а Разумовский по-прежнему сидел в Стокгольме, поддерживал контакты с оппозиционной королю партией19 и продолжал показываться на «гульбищах» и всячески вредить королевству. По мнению шведского автора, Разумовский был один из тех послов, которые нанесли наибольший вред королевству. Наконец, 11 августа Андрей Кириллович погрузился на «прекрасно устроенную яхту», в то время как его многочисленные сотрудники разместились на двух казённых судах, и отправился в Любек.
Кстати, одновременно с посольскими Швецию покидали русские купцы, занимавшиеся в Швеции довольно прибыльной торговлей и проявлявшие, по словам шведа, недовольство действиями Разумовского, спровоцировавшего, по их мнению, ненужную войну со шведами.
В это время (14 июля) его шведский визави барон Фредрик фон Нолькен20 эвакуировался домой через Польшу. Найти судно, которое могло бы доставить его из Кронштадта в Стокгольм, не удалось, а потому шведскому посольству предстояло сделать утомительный путь по суше. Соотечественники обвинят его потом в том, что он снабжал Стокгольм ложными сведениями, представляя Россию слабой военной державой и внушая Густаву III излишнюю самонадеянность.
Разумовский продолжал портить нервы шведам. Сославшись на противный ветер, он имел наглость остановиться на некоторое время в Висбю (о-в Готланд) и разгуливал по городу, рассматривая важные оборонительные укрепления шведов. Шведы предложили ему в «гиды» артиллерийского офицера, но граф с возмущением отверг «этот конвой» и попросил губернатора Готланда разрешить ему одному проехаться по всему острову. Это переполнило чашу терпения жителей острова, они окружили дом, в котором граф остановился, и пригрозили сжечь его вместе с обитателями.
Это ускорило отплытие яхты, и 26 августа она бросила якорь в Карлсхамне, но там посол вёл себя, по мнению шведов, вполне благоразумно. Пока чинили яхту, Разумовский пользовался гостеприимством жителей города, где губернатором был представитель партии «шапок», сочувствовавшей политике России. 3 сентября яхта взяла курс на Любек, откуда Разумовский отправился в Вену.
Оставив дипломатов в покое, Барфуд, а вслед за ним и Грот, сосредотачивает своё внимание на проблеме военнопленных.
1 сентября в Стокгольм привезли 980 человек русских пленных – «все рослые, дюжие ребята». Швед пишет, что это были офицеры, матросы и солдаты с эскадры, предназначавшейся для экспедиции в Архипелаг (Средиземное море)21 – «цвет русских морских сил». Их отвезли в Хагу, северное предместье столицы и поселили в бараках. Пленных употребили в работах в парке за 4 шиллинга в день. В свободное от работы время они плясали и пели, развлекая шведскую публику. Королева Швеции восхитилась их выступлениями и подарила им 100 риксдалеров, с умилением пишет Барфуд.
Среди военнопленных находился гардемарин Иван Петрович Бунин, служивший на одном из фрегатов, вышедших из Ревеля и оставивший свои воспоминания. Фрегат попал в густой туман, а когда туман рассеялся, то русские обнаружили, что оказались посреди шведской эскадры. После непродолжительной перестрелки фрегат сдался вместе со своим экипажем. Бунина с товарищами отвезли в крепость Свеаборг и заключили в каземат, где он лежал на соломе и получал пищу через отверстие в потолке. На четвёртые сутки свеаборгский комендант от имени короля извинился за плохое содержание офицеров, после чего пленных перевезли в Стокгольм на яхте Густава III. По прибытии в Швецию король распорядился устроить Бунина и его товарища на учёбу в Уппсальский университет. Учиться в шведском заведении по незнанию языка оказалось невозможным (французским языком офицеры не владели), но назначенное королём содержание в 900 риксдалеров в месяц за ними сохранили. На родину пленные возвратились через два с половиной года по окончании войны.
Барфуд признаёт, что обращение со шведскими пленными в России было тоже «человеколюбиво». После некоторых попыток бегства из плена шведов из Петербурга переместили во внутренние губернии. Швед пишет, что среди военнопленных находились два графа братья Вахтмейстер, служившие на корабле «Принц Густав» во время Гогландского сражения. Я. Грот пишет, что у нас одного из них ошибочно считали адмиралом, в то время как один из них, Ханс Йоханн, был капитаном судна, а другой, Клас – подполковник и начальник авангарда. Последний в сражении поднял вице-адмиральский флаг, что и послужило причиной ошибки.
Интересно, что война между Россией и Швецией шла полным ходом, а объявления войны не последовало. Густав III по прибытии в Финляндию отправил к русскому двору в Петербург капитана де-ла-Миля с ультиматумом, который 12 июня был передан вице-канцлеру И. А. Остерману (1725—1811). Ультиматум по своему содержанию совмещал мыслимое и немыслимое с явным прицелом на то, чтобы быть отвергнутым. И в самом деле: Россия должна была а) вернуть финские земли, полученные по Ништадскому и Обовскому трактатам; б) примерно наказать своего посла Разумовского; в) принять посредничество Швеции в мирных переговорах с Турцией и отказаться от Крыма; г) отозвать из Балтийского моря свой флот и разоружить его и д) отозвать свои войска из Финляндии.
Ответ Екатерины II на все эти требования был логичным и ясным – «нет».
Тогда король разослал во все европейские столицы декларацию с обвинениями «агрессивной» России, нарушающей спокойствие его мирного королевства. Петербург тоже не остался безмолвным и обвинил Швецию во вмешательстве в лифляндские и курляндские дела, что было правдой.

Портрет короля Густава III. Lorens Pasch the Younger – Gustav III, King of Sweden 1772—1792
Автором российского ответа Барфуд считает вице-канцлера Остермана, «имевшего счастье» в последние годы правления Елизаветы Петровны быть послом России в благословенной Швеции и тоже причинившего Швеции «немалые беды». Шведам почему-то никак не могли понравиться русские послы: что ни посол – то беда для королевства! «В этом, – говорит Барфуд, – явно выражается озлобление графа Остермана против шведского королевского дома». Будучи послом, продолжает утверждать швед, Остерман овладел партией «шапок» и принудил двор …отдаться в руки «шляп». По его же проискам риксдаг 1765 года принял вредные постановления, которые так расстроили горную и мануфактурную промышленность королевства, что несколько тысяч рабочих были вынуждены искать убежище в России, где они много способствовали развитию горного дела. С тех пор русское железо стало конкурировать со шведским.
Что ж скажем мы теперь: шведы и тогда искали причины своих бед в происках России, вместо того чтобы обратить внимание на назревавшие в королевстве проблемы. За что и поплатились, попав на обочину истории и превратившись во второстепенную страну. Так что «наполеоновские» замашки Густава III образца 1788 года были одним из последних актов этого неизбежного процесса.
Глава 7. Шпион Робеспьера в Черноморском флоте22
Великая французская революция заставила дворян и вообще сторонников монархизма разного пола, возраста и звания в массовом порядке покинуть Францию. Значительная колония из них образовалась в России, в которой и императрица, и дворяне встретили беглецов с истинным русским радушием. Наиболее знатная прослойка эмигрантов постаралась пристроиться к государственным должностям, а прочие дворяне, с более жидкой голубой кровью или вообще при её отсутствии, наводнили помещичьи поместья в качестве гувернёров и учителей французского языка. Помните такого гувернёра в пушкинском «Дубровском»: «Пуркуа ву туше?». Мол, зачем вы свет-то тушите?
Как во всякой эмиграции, среди французских аристократов оказались люди с сомнительной репутацией – например, граф Огюст Монтагю, поступивший в русскую службу в 1793 году. Граф, бывший лейтенант королевского флота, убеждённый роялист, после падения династии превратился в ярого сторонника якобинцев, вошёл в доверие к их вождю Робеспьеру и стал играть активную роль в деятельности Конвента, высшего органа государственной власти (1792—1795).
Протв якобинцев ополчились почти все европейские державы, угрожая Франции нашествием. Нейтральными на первых порах оказались Швеция, Турция, Россия и некоторые мелкие государства. Конвент резонно не верил в нейтралитет этих монархических государств и их дружелюбные заявления и организовал в них обширную сеть шпионов. Во главе этой шпионской службы стал проживавший в Вене аббат Сабатье-де-Кастр (1742—1817), писатель-памфлетист, «засветившийся» полемикой с Вольтером. Сабатье-де-Кастр завербовал молдавского господаря князя Александра Мурузи (1750—1816), который вместе с турецкими шпионами организовал работу в России, и о её результатах исправно докладывал в Конвент.
Оттоманская Порта старалась убедить де-Кастра в том, что Россия враждебно относится к правительству революционной Франции (что соответствовало истине), и аббат посчитал полезным завести в России своего шпиона. Выбор его пал на графа Монтагю, который по всем внешним признакам отменно подходил на эту роль – если не считать, конечно, его пристрастие к якобинству, но кто об этом мог знать в России?