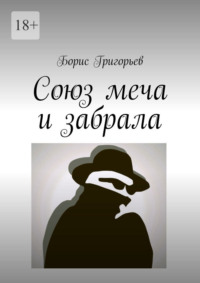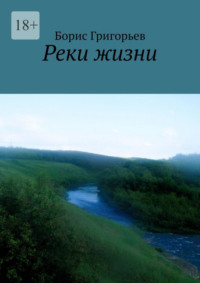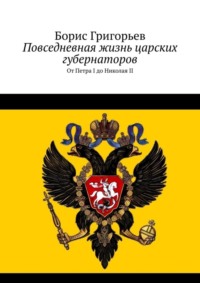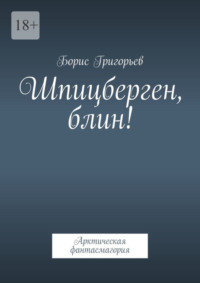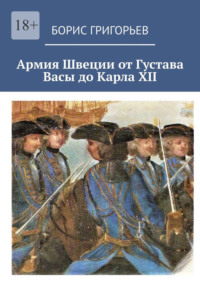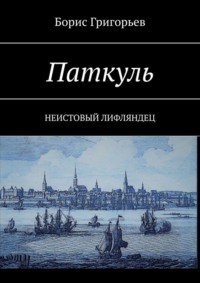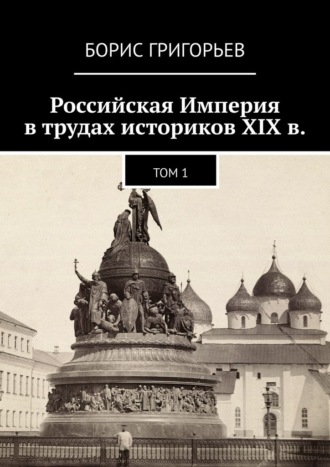
Полная версия
Российская Империя в трудах историков XIX в. Том 1
С этого момента, считает Матвеев, и началось падение Ордин-Нащокина, хотя Андрусовский мир он заключил на условии сохранения Малороссии за Москвой. Правда, пришлось на 2 года отдать Киев.
С Андрусовского договора начались и «шатания черкасов». В Малороссии вызвала ропот уступка полякам Киева, а в Правобережной Украине, выведенной из-под контроля «Собаки-Польши» гетманом Дорошенко, гневались на условия Андрусовского мира в целом. Сидевший в Гадяче гетман Иван Мартынович Брюховецкий, узнав о пренебрежительном отношении Ордин-Нащокна к Малороссии, начал приходить в сомнение.
Называя Брюховецкого выскочкой и оппортунистом и отдавая дань его храбрости и авторитету среди запорожских казаков, Матвеев пишет, что его политические взгляды сформировались в передней и столовой Богдана Хмельницкого, которому он прислуживал и которого считал мудрым батькой. После смерти старого Хмеля, убедившись в ничтожестве его сынка Юрия, Брюховецкий сделал ставку на запорожцев и стал помышлять о гетманской булаве.

Гетман Брюховецкий, портрет работы Гаврилы Андреевича Васько
Добившись не без помощи Москвы избрания в гетманы, Иван Мартынович из кожи лез, чтобы доказать свою верность московскому царю. В 1665 году он с многочисленной свитой прибыл в Москву и бил челом Тишайшему о более тесном подчинении Малороссии и посылке в черкасские города русских воевод и ратных людей. Для пущей убедительности в своей верности Москве он попросил царя женить его на какой-нибудь «московской девке». Царь любил оказывать такие услуги и предложил Брюховецкому в жёны дочь князя Д. А. Долгорукова. Алексей Михайлович оценил инициативу гетмана и присвоил ему боярский чин – так Брюховецкий получил прозвание боярина-гетмана. Кажется, царь оказал ему медвежью услугу: щирым казакам такое звание показалось оскорбительным и неуместным.
Н. И. Костомаров в своей монографии об этом человеке писал: «Москвы он никогда не любил, он только подличал и пресмыкался перед нею, надеясь, что она всегда может охранить его». Впрочем, пишет Матвеев, так смотрели на Москву все гетманы XVII века, включая и Богдана Хмельницкого.
Освободившись от польской зависимости, Дорошенко стал склоняться к протекции Турции, а когда сомнения Брюховецкого относительно Москвы достигли своего пика, то Дорошенко сумел заразить и его «турецкой болезнью». Впрочем, сделать это было не так уж и сложно – казацкая старшина и гетманы Украины всегда страдали этой болезнью, в том числе и старый Хмеля, который, правда, дальше шантажа перейти под руку султана не пошёл, но этого хватило, чтобы Москва пошла ему на некоторые уступки. Кроме того, Дорошенко в качестве платы за измену предложил Брюховецкому уступить ему и свою булаву и сделать его гетманом «всея Украины». Мартыныч перед таким соблазном устоять не смог и где-то в 1667 году пока завёл с Дорошенко тайную связь
Приехав домой с молодой женой, Брюховецкий был встречен общим ропотом: казаки выразили недовольство и московскими статьями, и принятием им боярского чина. Малороссийское духовенство тоже всполошилось, опасаясь подчинения Московскому патриарху (украинская церковь подчинялась тогда Царьградскому патриарху). Друг гетмана епископ Мефодий воспылал гневом, узнав, что гетман пригласил на освободившееся место митрополита московского человека. У гетмана возникли трения и с киевским воеводой Петром Васильевичем Шереметевым из-за его вмешательства в процесс сбора налогов в пользу московской казны. Москва поторопилась направить в Малороссию «для собирания вестей» дьяка Фролова. Сам Брюховецкий писал в Москву извинительные письма за возникшие после его приезда недоразумения и уверял царя в нерушимой верности.
Новым поводом к возмущению в Малороссии послужили скрываемые от малороссов, но просочившиеся сведения о сдаче Киева на 2 года полякам – об этом московские власти даже боярина-гетмана в известность не поставили. Особенно активно эти сведения распространял поссорившийся с Брюховецким епископ Мефодий. Но к 1667 году Мефодий при содействии архимандрита Иннокентия Гизеля, сторонника гетмана Дорошенки, с Брюховецким помирился, а боярин-гетман, вероятно через Гизеля, вступил в контакт с Дорошенко.
Надеяться на Москву он уже перестал – он в ней разочаровался и решил искать спасения в союзе с Правобережной Украиной Дорошенко. И в совместной надежде – на помощь султана. И тут в конце осени 1667 года Ордин-Нащокин вступил в переговоры с Дорошенко, пытаясь склонить его к сотрудничеству с Москвой, а влиятельное духовенство – убедить в подчинении Московскому патриарху вместо Константинопольского. Афанасий Лаврентьевич изобрёл для этого искусный, по его выражению, «привод», вставив в текст Андрусовского мира секретную статью, согласно которой Москва, не нарушая договора с поляками, могла удержать за собой Киев. Чтобы этот «привод» сработал, русский Ришелье решил раздуть в Западной Украине смуту, которая бы явилась предлогом не сдавать Киев полякам. Посланный им в Малороссию стряпчий Тяпкин и киевский воевода П. В. Шереметев стали раздувать эту смуту во всю меру своих способностей и возможностей.
Увлекшись уговорами Дорошенко, Ордин-Нащокин совсем забыл про Левобережную Украину, что и немедленно привело к восстанию последней против Москвы. Польский посол Бенёвский, соавтор Афанасия Лаврентьевича при подписании Андрусовского договора, хорошо знавший казаков и Украину, сумел «вклеить» в текст договора свой хитрый «привод», который и взбудоражил левобережных казаков и поднял их на восстание. Тонкая дипломатия русского Ришелье потерпела крах – где тонко, там и рвётся.
Ордин-Нащокин, пользовавшийся ранее услугами епископа Мефодия, выбрал своими агентами Гизеля и Тукальского, верных клевретов Дорошенко, а те нисколько не были заинтересованы в разрыве связей с Константинопольским патриархом и гнули свою линию, подстрекая Брюховецкого к разрыву с Москвой.
В конце января 1668 года П. В. Шереметев из Киева забил тревогу и поспешил известить о своих опасениях Нащокина. Тот, поняв свой промах, активно принялся за исправление создавшегося положения в Малороссии и вспомнил даже о Мефодии, но было уже поздно. К боярину-гетману и духовенству послали успокоительные грамоты, их обнадёживали относительно удержания Киева и извещали о посылке к ним дворянина Ивана Желябужского, который должен был ознакомить их с содержанием текста Андрусовского мира, и даже обещали отменить московские статьи о воеводском управлении черкасских городов.
Не дожидаясь результатов миссии Желябужского, в Севск для боярина-гетмана, черниговского архиепископа Лазаря Барановича, Мефодия и Гизеля отправили с царскими грамотами специального гонца, но когда гонец 12 февраля прискакал в Севск, он узнал, что подавшийся к туркам Брюховецкий был 8 февраля убит в Гадяче, а вместе с ним погибли царский воевода Одоевский и его ратные люди. Под контролем Москвы в Левобережной Украине остались всего 3—4 города, включая Киев, а результаты Переяславской Рады едва не погибли в пожарах и в крови, вызванных изменой Брюховецкого. «Всё было сделано как со стороны Москвы, – пишет Матвеев, – так и наиболее влиятельных в то время деятелей Малороссии, чтобы расшатать в корне великое дело 1654 года на раде в Переяславле: и оно тем не менее устояло».
В конце мая 1668 года был зверски убит Дорошенко и произошло ещё много неприятных событий в этом високосном году, которые Матвеев не захотел комментировать в виду их однообразия. Но, как говорил гоголевский Осип, всё имеет свой конец – закончилась и смута в Левобережной Украине, захлебнувшаяся в собственной крови.
В январе 1669 году в первопрестольную прибыло из Малороссии великое посольство от наказного атамана Северской Украины Демьяна Игнатьевича Многогрешного и черниговского архиепископа Лазаря Барановича с повинной и челобитьем простить черкасским городам измену гетмана Ивашки Брюховецкого. 19 января посольство было принято Алексеем Михайловичем, а «он вины их велел отдать и к прежнему своему милосердию принять изволил». Переговоры с ним были поручены Б. М. Хитрово, а А. Л. Ордин-Нащокин к ним допущен не был. На первый же вопрос царского оружничьего о том, почему левобережные казаки взбунтовались, посольство ответило, что причиной явилось пренебрежительное отношение к ним и черкасским городам со стороны Малороссийского приказа.
Посольству 25 января было сказано, что все дела будут решаться на Раде и что в Малороссию для этого отправляются боярин Г. Г. Ромодановский, стольник Артамон Сергеевич Матвеев и дьяк Богданов. По ходатайству посольства Раду решили провести в Батурине. 12 февраля 1669 года в Москве начались приготовления к этому важному событию. Переяславская Рада была сохранена и восстановлена, но уже без участия А. Л. Ордина-Нащокина.
Глава 4. Европа и Россия в начале XVIII в.12
«Главной нитью всех этих событий, – начинает историк А. Г. Брикнер свою статью, – было враждебное отношение большей части западноевропейских держав к Московскому царству…» И этот тезис лейтмотивом проходит через всю статью.
Как только англичане в 1553 году открыли морской путь в Россию через Белое море, в Европе сразу раздались голоса, что Россия для неё может представить опасность. Одним из первых тревогу забил польский король Сигизмунд. «Дозволить плавание в Московию воспрещают нам важнейшие причины, – писал он английской королеве Елизавете 13 июля 1567 года, – не только наши частные, но и всего христианского мира и религии, ибо неприятель от сообщения просвещается и, что ещё важнее снабжается оружием, до тех пор в этой варварской стране невиданным…»
В другом письме от 13 марта 1568 года Сигизмунд конкретизирует свои предупреждения английской королеве, называя Россию не только врагом Польши, но и «наследственным врагом всех свободных народов»: «…Что всего более заслуживает внимания, он снабжается сведениями о всех наших даже сокровеннейших намерениях, чтобы потом воспользоваться ими на погибель всем нашим».
Вот так Россия ещё в правление Ивана IV сразу и безапелляционно помещается в лагерь нехристианских, варварских и враждебных Западу стран. Мнение Сигизмунда разделяли и соседние с Польшей страны. Известно, что в Любеке и Дерпте были задержаны ремесленники, приглашённые царём Иваном. Менее известно, что испанский герцог Альба 18 июля 1571 года обратился к германскому народу с запиской, в которой требовал запретить поставки вооружения в Россию.
К счастью для России, Англия и Нидерланды не последовали антирусским призывам и начали активно торговать с русскими, и не потому, что «полюбили» их, а потому, что считали это для себя выгодным. Мы знаем, что Великое посольство Петра I в 1697 году было более-менее благоприятно воспринято Голландией и отчасти Англией, но остальная просвещённая Европа встретила его либо в штыки, либо с большим скепсисом. Когда Пётр прибыл в Вену для переговоров о совместных действиях против Османской империи, венецианский посланник Рудзини, вслед за официальной Веной, презрительно выразился о пользе посольства Петра, поскольку Россия в то время не имела никакого веса в области внешней политики.

Пётр I в Дептфорде в 1698 году, художник Даниел Маклиз
Взятие русскими Азова, казалось, должно было приветствоваться антиосманской коалицией, но это только казалось. Когда француз Фурше, сопровождавший к Азову партию приглашённых Петром европейских офицеров, возвращаясь домой через Варшаву, рассказывал польским сенаторам о приготовлениях русской армии к осаде Азова, те сокрушённо качали головами и говорили: «Какой отважный и беспечный человек! И что от него впредь будет?» Воевода Плоцкий высказался о русских более откровенно: «Лучше б было, чтобы дома сидели, это нам бы не вредило. А когда выполируются, крови нанюхаются, увидим, что из них будет. До чего господи Боже не допусти!»
Резидент Никитин докладывал царю, что поляки сильно перепугались взятием Азова, и что за их лицемерными хвалебными отзывами скрывались вражда и ненависть к русским. Поляки, по мнению Никитина, только ждали удобного момента для того, чтобы вторгнуться на Украину и вернуть утраченный ими над ней контроль.
Брикнер прослеживает реакцию Европы на события под Нарвой и Полтавой – реакцию вполне ожидаемую. «При неблагоприятном настроении умов вне России известие о поражении русских войск при Нарве было встречено с особенной радостью в Западной Европе», — пишет Александр Густавович. Немецкий учёный Лейбниц писал своему приятелю в Швецию, что это поражение дорого обойдётся русским, «что нельзя не желать, чтобы юный шведский король завоевал всю Россию до реки Амура» и посвятил этому событие стихотворение, едко высмеивающее царя Петра, старающегося скрыть свой позор. Появились брошюры и памфлеты, в которых восхвалялся Карл XII, выбивались в его честь медали и осмеивался Пётр I.
Русские резиденты за границей оказались в весьма тяжёлом положении.
Голицын доносил из Вены, что «главный министр граф Кауниц и говорить со мной не хочет; они только смеются над нами». В Вене распространялись слухи, что царевна Софья освобождена из монастыря, и что ей поручено возглавить правительство России. (Как это напоминает нынешнюю ситуацию, в которой коллективный Запад прилагает все усилия к тому, чтобы вызвать в России недовольство политикой Путина).
Матвеев из Гааги сообщал, что шведский резидент Лилиенрот такими позорными словами «поливает» Петра, что «моя рука того написать не может».
В Польше опять получили актуальность планы нарушить Андрусовский договор и вернуть Украину.
Союзник царя саксонский курфюрст Август II был очень недоволен намерением Петра осадить Нарву: при её падении России достался бы слишком большой куш в Прибалтике, на который положил глаз он сам.
Когда войска под командованием Б. П. Шереметева стали проявлять активность в Лифляндии и Эстонии, в Европе стали вновь опасаться проникновения России в Балтийское море, а Голландия, недовольная строительством судов в Архангельске, стала усердно продвигать идею заключения между воюющими странами мира. (И опять мы убеждаемся, что нынешний Запад повторяет «зады» и не придумывает ничего нового, как «мирными инициативами» попытаться остановить успехи России на военном и внешнеполитическом театре действий). Бюргермейстер Витсен за своё расположение к царю и к России подвергся остракизму, а на голландского купца Бранта, поставлявшего в Россию ружья, шведы организовали покушение. Матвеев писал Петру о лицемерии голландских предложений о мире и предостерегал его от использования Гааги в качестве посредника для ведения мирных переговоров.
В Вене, по свидетельству русского посла Й. Р. Паткуля, ганноверский, английский и голландский посланники всеми силами пытались отговорить Австрию от сотрудничества с Россией и показать опасность её усиления. Хорошо информированный Пётр понимал, что надеяться надо было только на успех русского оружия и построил свою политику на использовании противоречий в европейском лагере. Когда в Европе началась война за испанское наследство, Пётр в письме от 2 июня 1702 года писал Апраксину: «Дай Боже, чтоб затянулась». Чем больше внимания Европа ввязывалась в противостояние с Испанией и Францией, тем удобнее было для России выполнять свои планы.
Положение России продолжало, между тем, оставаться опасным и Пётр постоянно искал путей заключения со шведами мира. Он обратился за помощью к герцогу Марльборо, предложив ему в качестве вознаграждения любое из княжеств – Киевское, Владимирское или Сибирское, но герцог хапнул 50 тысяч ефимков и ничего для подготовки мира не предпринял. Во время аудиенции у Карла ХII он увидел, что шведский король готовился к походу в Россию, и мешать ему в этом предприятии не захотел.
Принцу Евгению Савойскому Пётр предлагал польскую корону, пруссаку графу Вартенбергу – крупную сумму денег, голландцам – вспомогательное войско для войны с Францией, датчанам – Дерпт и Нарву, но все эти попытки были безуспешными. Всюду предложения царя встретили холодный приём. Европа ждала, Европа жаждала похода Карла ХII в Россию.
А потом Август II за спиной у Петра I заключил со шведами предательский сепаратный Альтранштетский мир, и Россия осталась наедине с могущественным противником. Пётр успел укрепиться на берегах Балтийского моря, но дальнейший успех, по словам Брикнера, подлежал сомнению. Европа смотрела на Россию свысока: доказательством тому служило холодное обращение с русскими дипломатами и даже казнь русского посла в Саксонии Й. Р. Паткуля. «Для того чтобы приобрести значение и вес в Европе, нужна была победа», – заключает Брикнер. (Эту важную мысль историка XIX века можно с таким же успехом повторить в наше время).
«Полтавской битвой изменилось всё в пользу России, и были устранены все сомнения относительно её будущего величия», пишет Брикнер. Открылись надежды на «открытие окна» в Варяжское море, было обеспечено существование Санкт-Петербурга. Лейбниц «переобулся» и стал называть победу под Полтавой достопамятным событием и полезным уроком для позднейших поколений. Россия, по его мнению, теперь была способна играть большую роль во всемирной истории. (Был ли философ искренен при этом? Что-то мало верится.)
Спустя много лет после 1709 года ещё один властелин европейских душ, француз Вольтер, сказал, что Полтавская битва – единственное во всей истории сражение, следствием которого было не разрушение, а счастье человечества, ибо оно обеспечило Петру I простор на пути своих преобразований.
Вольтер был великим мыслителем, но и его слова быстро улетучились из мозгов французов. Во всяком случае, уже 30 лет спустя в Россию прибыл посол Шетарди с инструкцией французского короля произвести в России переворот и отбросить Россию за пределы Уральских гор. Сильная Россия была как кость в горле Версаля, и царствующим потомкам Петра приходилось защищать российское государство на полях сражений.
А пока царь принимал меры по укреплению роли и значения России и начал целую серию «брачных наступлений», выдавая своих родственников за представителей знатных европейских дворов. Он начал эту политику ещё в 1707 году, сватая сына Алексея за невесту из брауншвейг-вольфенбюттельского двора.
Ганноверский курфюрст решил отказаться от союза со Швецией, положение русских дипломатов резко изменилось в лучшую сторону, самого Петра восторженно приветствовали в Люблине, Варшаве, Берлине и поздравляли с победой. Дрезден и Копенгаген снова возобновили союз с Петром I. Причём если ранее датский король требовал для возобновления союза против шведов субсидию, то резиденту В.Л.Долгорукову, наперекор интригам английского и голландского резидентов, удалось решить вопрос без всякой субсидии. Даже король Людовик XIV снизошёл до предложения вступить в союз с Петром.
Брикнер отмечает, что всеми этими ухаживаниями за царём европейцы преследовали свои корыстные цели. На свидании с Петром в Мариенвердере «твёрдый» союзник прусский король Фридрих-Вильгельм I предложил осуществить раздел Польши, на что царь ответил, что такую мысль считает неосуществимой. Пруссак от своего проекта был вынужден отказаться, но повторил его в 1710 году, однако и тут наткнулся на решительный отпор Петра. В Берлине стали считать, что Пётр ведёт себя слишком гордо и с достоинством. (Видимо считая, что вести себя с достоинством могли только немцы, французы и англичане).
Были недовольны успехами Росси и турки, науськиваемые английским и голландским посланниками. В Константинополе считали, что Россия стала играть слишком большую роль в Польше и вели дело к войне. Кстати, неудача Прутского похода 1711 года была с лихвой компенсирована Россией на театре военных действий на северо-восточном фланге. Последовало падение Риги, Эльбинга, русские войска появились в Померании, Мекленбурге и Голштинии, а царь стал частым гостем то в Карлсбаде, то Теплице, Пирмонте, Спа или в Берлине и Копенгагене. Всех он удивлял своей неутомимостью, предприимчивостью, самостоятельностью взглядов и мыслей, всех он превосходил в знании дела, во владении техники войны, опытностью в вопросах политики. В тон ему успешно действовали дипломаты Куракин, Долгоруков и Матвеев.
В Германии, вследствие явного перевеса России, начали говорить о возможности ужасного кризиса. Когда русские войска приступили к осаде Штеттина и Штральзунда, Фридрих I в записке своему дипломату пожаловался, что вся Пруссия оказалась в руках русского царя. Ревнивые союзники повсюду стали вставлять русским палки в колёса, мешать, саботировать, обманывать. Особенно сноровиста на гадости была Англия. Для поддержания «равновесия» в Европе Лондон категорически выступил против поражения в войне Швеции и лишения её Ливонии. Говорят, что у Петра в Карлсбаде был такой «крупный» разговор с посланником Витвортом, что тот предпочёл поскорее удалиться. Англичане испугались, что с доступом русских в Балтийское море русские купцы переиграют английских и возьмут всю балтийскую торговлю в свои руки.
Царь раскусил своих союзников и был настроен решительно. В беседе с английским дипломатом Гоусом он заявил: «Я готов со своей стороны явить всякую умеренность и склонность к миру, но с условием, чтобы медиаторы поступали без всяких угроз… В противном случае я вот что сделаю: разорю всю Ливонию и другие завоёванные провинции, так что камня на камне не останется. Тогда ни шведу, ни другим претензии будет иметь не к чему». Гоус, передавая содержание разговора с царём своему правительству, заметил, что с Петром следовало поступать осторожно, и что враждебными действиями принудить его ни к чему нельзя. (Такие разговоры, вероятно, действуют на англичан лучше всего).
Окончание войны за испанское наследство сказалось отрицательно на положении России. Особенно «отличался» Берлин, под разными предлогами не желавший навредить Швеции, но готовый уколоть чем-нибудь Россию. Когда сдался город Висмар, датские, прусские и ганноверские войска запретили войти в город русской армии. Рассерженный Пётр особенно неприязненно оценил действия Дании.
Союзники Петра стали считать возможным, что преобладание российского флота на Балтике и русской армии в Германии царь непременно использует для нападения на кого-либо из них. Особый страх начала испытывать Дания, в 1716 году датчане полагали, что Пётр непременно предпримет нападение на Копенгаген.
В это время Дания и Россия планировали высадить десант и вторгнуться на территорию Швеции. Но нападение на Швецию не состоялось. Царь Пётр произвёл рекогносцировку южного побережья Швеции и обнаружил там сильные шведские укрепления. Русские суда, в том числе и корабль, на котором находился царь, были обстреляны шведскими батареями и получили повреждения. Дания медлила и никаких шагов не предпринимала. Настала осень, и тут сам царь отменил операция, заподозрив, что союзники, заманив русскую армию в Швецию, захотели её погибели.
Дания в свою очередь обвиняла русских в медлительности, обвинила русскую сторону в сношениях со шведской стороной и требовала немедленной транспортировки русских войск. Между союзниками возник полный разлад, датский король отказался встречаться с Петром. Подливала масла в огонь Пруссия, которая была раздражена тем, что Дания якобы планировала вознаградить участие Петра в высадке десанта на шведский берег Померанией и городом Штеттином. Жители Копенгагена вооружились и ждали нападения русского флота.
Союзная Англия, пославшая свой флот к датским берегам, в это время собиралась нанести сокрушительный удар по русскому флоту и армии. Король Георг I хотел разом покончить с присутствием русского флота в Балтийском море и поручил адмиралу Норрису напасть на русские корабли, арестовать царя и принудить его убраться в Россию. До этого, к счастью, не дошло, потому что среди английских министров нашлись благоразумные люди, которые посчитали, что такая подлая акция могла навредить самим англичанам.
Англичане, ганноверцы и датчане не гнушались пустить в ход самую гнусную ложь, утверждая, что царь хочет захватить то Гамбург, то Мекленбург, Любек или Висмар. В этой ситуации хитрый Фридрих-Вильгельм I решил оставаться верным союзу с Россией и, наблюдая за действиями английских, датских и ганноверских дипломатов в Берлине, аккуратно доносил о всех инсинуациях посланнику Головкину.

А. Пэн. Портрет Фридриха Вильгельма I. 1733 г.
Несмотря ни на что, Пётр считал, что Россия в целом добилась своего: она завоевала Прибалтику, нанесла поражение шведам, и теперь с Россией vollens nollens стали считаться. Все старания Европы лишить Россию её завоеваний терпели неудачу. Англия не один раз посылала свои эскадры на помощь шведам, но так ничего существенного сделать не смогла13. Пётр перенёс военные действия в Финляндию и на территорию Швеции в надежде поразить Швецию в её самое чувствительное место, и достиг через 3 года желаемого.