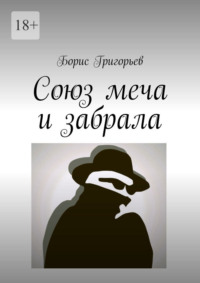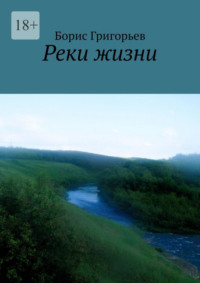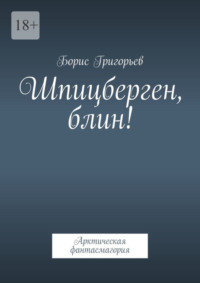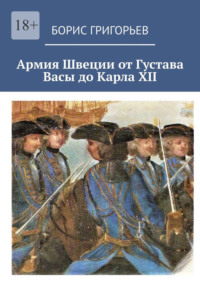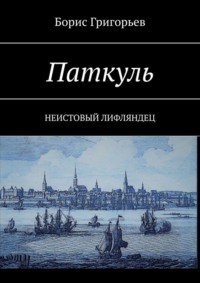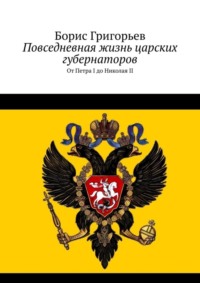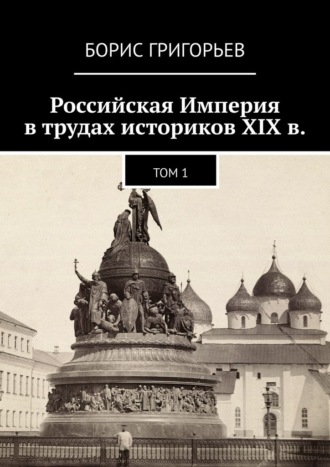
Полная версия
Российская Империя в трудах историков XIX в. Том 1
Война с литовцами тлела до 1522 года, пока обе стороны не утомились от её тягот и пока Сигизмунд не начал с помощью своего брата короля Венгрии Владислава посылать императору Макимилиану сигналы о желательности повлиять на своего союзника Василия в пользу переговоров. Владислав скрепил союз с Максимилианом браком своего лесятилетнего сына Людовика с его внучкой Марией, так что император был вполне доволен этим шагом, считая перспективы на овладение Чехией и Венгрией довольно оптимистичными. И действительно: скоро умер король Владислав, и Максимилиан вместе с Сигизмундом стали осуществлять опеку над несовершеннолетним Людовиком.
Максимилиан обещал больше не выступать против Польши и Литвы, а московского князя привлечь к войне против Османской империи, тем самым положив начало политики переложить тяжесть борьбы с «неверными» на русские плечи. Василий Иванович воспринял новость о переходе Максимилиана на противную сторону с возмущением и приехавших к нему императорских послов, ходатайствующих о примирении Москвы с Польшей, принял более чем холодно. Император не удовлетворился неудачей и послал в Москву своего лучшего дипломата барона Сигизмунда Герберштейна.
18 апреля 1517 года барон торжественно въехал в Москву и был помещён в дом князя Ряполовского, где приставленные к нему приставы строго следили за его поведением и разговорами. Для переговоров Василий назначил двух знатных бояр, казначея, дворецкого и трёх дьяков, но ведущим переговорщиком стал грек Юрий Малой, приехавший ещё в свите Софьи Палеолог.
Герберштейн пустился «мыслью по древу», повествуя об опасности османов, угрожавших христианскому миру, в связи с чем высказал о пагубности конфликта между двумя христианскими странами Москвой и Польшей. Василий ответил на это, что готов пойти только на прямые переговоры с Польшей и только в Москве, как было заведено прежде. Герберт послал своего племянника фон Турна к Сигизмунду, и вскоре в Москву отправились его послы католик Ян Щит и православный Богуш Боговитинов. Одновременно Константин Острожский осадил псковский город Опочку в надежде улучшить позицию послов на переоговорах.
Москва на это давление «не купилась» и послов Сигизмунда в Москву не пустила, разрешив им оставаться в Дорогомилове до тех пор, пока они «не переведаются» с Острожским. Это переведывание заняло 3 недели, когда из Пскова прискакали гонцы и сообщили Василию, что воеводы Фёдор Оболенский, Лопата Телепнев и Иван Лятцкой побили Острожского, и тот ушёл в Литву. Тогда Я. Щиту и Б. Боговитинова пустили в Москву, и с ними начались переговоры.
Стороны предъявили невыполнимые условия. Василий потребовал наказать панов, причастных к убийству его сестры Елены, возвращения её казны и отдачи Киева, Полоцка, Витебска и др. городов, которыми когда-то владела Русь. Сигизмунд требовал возвращения Смоленска, половину Новгорода, Псков, Тверь и Северскую землю. При посредничестве Герберштейна все требования свелись к одному пункту – Смоленску. Москва ни за что не хотела терять этот город, и переговоры были прерваны, послы уехали, а вслед за ними уехал и Герберштейн. Перед отъездом барон просил Василия отпустить на свободу Глинского, но получил отказ. Вместе с Герберштейном в Германию поехал дьяк Племянников.
Максимилиан и после этого не прекращал своих попыток достичь мира между Москвой и Польшей, но в 1519 году он умер, а военные действия между конфликтующими сторонами продолжились. В 1518 году русское войско осадило Полоцк и даже доходило до предместий Вильны. Василий добился участия в войне против Польши магистра Альбрехта, Литва подверглась нападению крымских татар, и Сигизмунд снова присылал своих послов в Москву, но переговоры опять закончились безрезультатно.
В 1521 году Альбрехт потерпел поражение от польско-литовского войска, и он заключил с Польшей четырёхлетнее перемирие. В это же время Москва подверглась совместному нападению Казанского и Крымского ханства. И тогда в 1522 году перемирие с Литвой было заключено на 5 лет, Смоленск был сохранён за Москвой, а Москва сняла своё требование о возвращении пленных, взятых под Оршей.
Мысль о прочном закреплении Смоленска не отпускала Василия, и в 1524 году он снова решил воспользоваться посредничеством императора и отправил в Мадрид (Священной римской империей правил тогда внук Максимилиана, король Испании Карл V) князя Засекина и дьяка Борисова. Император и его брат эрцгерцог австрийский Фердинанд отнеслись к этому делу благосклонно и отправили к Василию Ивановичу посла графа Нугароля и известного барона Герберштейна.
В апреле 1526 года они прибыли в Москву, а вслед за ними пред очи московских дьяков появился посол папа Климента VII Иоанн Франциск. Римская курия под видом посредничества к заключению мира пыталась подчинить русскую церковь папскому главенству. Посол пытался завлечь Василия III королевским венцом, а московского митрополита – чином патриарха. И конечно же предлагал выступить против турок в защиту христианства. За все эти блага требовался пустяк – признать Флорентийскую унию. На всё это Москва ответила решительным отказом.
В октябре 1526 года приехали литовские послы полоцкий воевода Пётр Кишка и литовский подскарбий Богуш-Богуславский, и при посредничестве императорского и папского послов начались переговоры. Главным пунктом дискуссий снова стал Смоленск. Согласились продлить перемирие ещё на 6 лет. Смоленск оставался пока за московским княжеством.
В заключение главы отметим активные и целеустремлённые шаги Василия III по собиранию русских земель, его последовательную и принципиальную политику в отношении польско-литовского королевства, а также широкое использование дипломатии для достижения поставленных целей. Великий князь оказался достойным продолжателем дела своего отца и за время своего княжения значительно укрепил авторитет и значение Московского княжества.
Глава 2. Польско-литовская интервенция3
С исчезновением Лжедмитрия I обстановка в московском государстве отнюдь не упростилась, а стала ещё более запутанной. Первого самозванца сменил второй, а оказавшийся у власти царь Василий Шуйский с управлением государством в такой непростой период просто не справился.
Но главная опасность России стала угрожать со стороны Польши, которая, отбросив в сторону все старые (с Борисом Годуновым) и новые (с Лжедмитрием) договоры, решила поживиться за счёт ослабевшего русского государства, подчинить его под видом унии и в 1609 году развязала войну, продлившуюся вплоть до 1618 года.
Война эта вошла под названием польско-литовской интервенции.
Подготовка к войне
Вожделения поляков возникли не на пустом месте.
Ещё в 1605 году некто Безобразов, посланец московских бояр, от их имени предлагал Сигизмунду III занять царский трон. То же самое в 1606 году повторил посланец Василия Шуйского Волконский: он прибыл, чтобы известить короля о восшествии на престол Шуйского, а одновременно исполнил желание неизвестных бояр пригласить на русский трон польского короля или его сына Владислава. Через некоторое время в Вавельский замок4 в Кракове явился ещё один посланец с предложением избавить страну от Шуйского и Лжедмитрия II.
Естественно, свои агрессивные вожделения Сигизмунд одел в приличествующую своей миссии одежду: распространение на московитов истинной христианской веры – католицизма. Он поднял это упавшее со смертью Лжедмитрия знамя, будучи уверен в том, что приунывший после убийства своего ставленника в мае 1606 года Ватикан его непременно поддержит.
Оставалось только решить «маленькую» проблему: где взять деньги на войну? Папа Павел V слыл человеком прижимистым, но кроме него Сигизмунду обратиться было не к кому. Он вступил в переговоры с нунцием Симонетти, сменившим Рангони. Новый нунций доверием короля не пользовался, потому что он твёрдо следовал указаниям папы. А папа отказался выполнить просьбу Сигизмунда надеть на Рангони кардинальскую шапочку, и отношения между Ватиканом и Вавельским замком испортились.
Обрабатывать Симонетти Сигизмунду помогала королева Констанция и хофмаршал Николай Вольский, но Симонетти был дипломат тёртый, и обвести его вокруг пальца было невозможно. Король вспомнил о том, как папа Сикст V золотом субсидировал в своё время Стефана Батория. Ватикан отвечал, что Баторий воевал с неверными турками, а не с москвитянами (что, конечно, было не так), поэтому Сикст V и оказал ему денежную помощь. Павел V, конечно, всей душой был за то, чтобы в Москве на троне сидел король-католик, но хотел, чтобы это было достигнуто за счёт средств Польши. И в своих молитвах, и церковных посланиях он искренно благословлял польского «крестоносца» на благое для Ватикана дело, но денег не давал. В ночь под рождество 1609 года он выслал Сигизмунду воинские знаки отличия – меч и нарамник5, за которые король принёс благодарность, но посчитал такие подарки слишком платоническими. Денег – вот что хотел он получить от папы!
Настала очередь Констанции, которая со всей женской силой и убедительностью приступила к Симонетти. От слов она переходила к «слезопусканиям», но Симонетти в течение всего 1610 года стойко выдерживал все атаки королевы. Ей помогал Николай Вольский, который решил воздействовать не только на нунция, но и на папу и предпринял вояж в Рим. Папа обошёлся с посланцем Сигизмунда вежливо, обещал поговорить насчёт денег с Венецией, Флоренцией и Лотарингией, а в заключение вручил хофмаршалу меч и нарамник для передачи Сигизмунду.
Касса Ватикана и вправду была пуста, просителей денег было много, и Павел V концентрировал свои усилия на борьбе с «турецкой опасностью» и помощи французским католикам, после убийства Генриха IV. Но вплоть до 1611 года исполнялась одна и та же песня, в которой одни просили субсидий, а другие – в ней отказывали. И Сигизмунду на войну с Россией пришлось напрягать свои скудные финансы.
Война уже вовсю полыхала на просторах Московского царства, а переговоры короля с Ватиканом не прерывались. Новый толчок в отношениях между королём и папой был дан в связи с желанием Сигизмунда отправить в Рим посольство, чтобы продемонстрировать Павлу V своё сыновнее послушание. Симонетти не переставал напоминать королю об этом его долге, и посольство во главе с житомирским епископом Павлом Волуцким в 1613 году было, наконец, снаряжено и отправлено. Волуцкий тоже обсуждал с папой вопрос о субсидиях, но с тем же успехом. Павел V предложил Сигизмунду обратиться за помощью к польским епископам и внёс в сумму сборов личный вклад в размере 40 тысяч экю.
«Признательность короля не была равносильна папской щедрости», – замечает Пирлинг. Папа по-прежнему отказывал в кардинальском звании епископу Рангони, и это только усугубляло злость и гнев Сигизмунда. Павел V приводил в своё оправдание аргумент о том, что он оказывал польскому королю многие особые одолжения и указывал на суммы денег, которые он таки где-то раздобыл на ведение войны с Московией6. На них ссылается и кардинал Боргезе в письме к Симонетти от 8 апреля 1617 года.
Ход войны
Большинство сенаторов поддержали Сигизмунда, но сейм отказался от предложенных королём чрезвычайных налогов. Так что король мог надеяться только на Всевышнего и удачу на поле боя.
Главными своими противниками он считал Василия Шуйского и Лжедмитрия II. «Великая ошибка Сигизмунда… заключалась в том, – пишет Пирлинг, – что он не понял, что позади Василия и Дмитрия, позади бояр, игравших в руку полякам мятежной толпой народа, была Россия, приверженная к старине, враждебная всему иностранному, Россия могучая и здоровая, готовая на жертвы, способная на жертвы и героизм».
В мае 1609 года король вместе с супругой приехал в Вильну, чтобы сделать последние приготовления к походу на восток, а в августе, простившись с Констанцией, он двинулся с армией на Оршу. В исходе сентября поляки перешли границу России.
Пирлинг воздерживается от описания отдельных эпизодов войны и уделяет внимание лишь действиям гетмана Станислава Жолкевского, ветерана войн Стефана Батория. В то время как Сигизмунд занялся осадой Смоленска, гетману было поручено собрать все польские отряды, бродившие по русской земле, под своё командование и заняться военными действиями против русской армии Шуйского и банд Лжедмитрия.
Русская армия во главе с Дмитрием Шуйским, братом царя, стояла под Клушино, а присоединившимися по просьбе царя шведскими частями командовал Якоб де-ла-Гарди. Союзники спали и были разбужены звуками польских труб, давших сигнал к атаке. В ходе жаркого сражения 24 июня (4 июля) 1610 года поляки одержали победу и захватили богатые трофея, брошенные обратившимися в бегство стрельцами. Немецкие и французские наёмники присоединились к войску Жолкевского, а шведы, в силу особого соглашения, с почётом удалились под Новгород. Армия Шуйского перестала существовать.

Атака хоругви крылатых гусар в битве при Клушине. С картины польского художника XVI века Шимона Богушовича
Результатом поражения под Клушино стало низвержение с трона Шуйского. Организаторов переворота Пирлинг не называет, но было ясно, что ими были бояре той самой партии, которая уже неоднократно предлагала русский трон Сигизмунду или его сыну Владиславу. 7 июля 1610 года к поверженному царю явились бояре и приговорили его к пострижению в монастырь. Василий Шуйский постричься отказался, но его схватили и крепко держали, и пока монах брил его голову, какой-то священник читал за него обычную при пострижении формулу, которую он тоже отказался произносить. Братья царя, Дмитрий и Иван, оказались в темнице.
Жолкевский издали наблюдал за событиями в Москве и за борьбой трёх партий, одна из которых желала иметь русского царя, другая – тушинского вора, а третья – Сигизмунда или Владислава. Пропольскую партию возглавлял боярин Мстиславский, известный своим богатством и древним происхождением рода. Эта партия была самой малочисленной, но сумела захватить власть – Мстиславский исполнял обязанности царя.
Правительство Мстиславского вступило в контакт с Жолкевским и предложило русский трон принцу Владиславу при условии, что он примет православие. Жолкевский, естественно, не мог решать этот вопрос без ведома своего короля и, подписав временный договор с московским правительством, отправился к нему под Смоленск.
Но настоящее торжество гетмана было впереди: партия Мстиславского, обуреваемая страхом перед неустойчивой московской чернью и полчищами Лжедмитрия, пригласила Жолкевского войти в Москву. Упрашивать поляка не пришлось. 9 октября 1610 года он доложил о своём ошеломительном успехе Сигизмунду. Жолкевский настолько чувствовал себя полновластным хозяином Москвы, что ему привезли из монастыря Василия Шуйского, присоединили к нему двух его братьев и отдали гетману. Тот посадил их на телеги и повёз показывать королю под Смоленск. 8 ноября Жолкевский с Шуйскими прибыл к королю, и тот осыпал гетмана всяческими благодарностями, хотя, как пишет Пирлинг, в душе он был уверен, что договор с московитами относительно крещения Владислава в православную веру никогда не будет одобрен ни Римом, ни им самим.

Гетман великий коронный Станислав Жолкевский
В конце 1610 года исчез с московского горизонта и Лжедмитрий. Брак с «московской царицей» Мариной нисколько не помог ему, и он, опасаясь столкновения с польским войском, сбежал в Калугу, где вскоре пал жертвой заговора русских татар, руководимых Петром Урусовым. Партия «тушинского вора» распалась, рассосалась и перестала существовать. Марину с её сыном Иваном Дмитриевичем взял под свою опеку донской атаман Заруцкий.
…Сигизмунд между тем несколько месяцев простоял под стенами Смоленска, но взять крепость не смог. Гарнизон Смоленска под командованием воеводы Шеина храбро отбивал все приступы и сдаваться не собирался. Наконец, после взрыва крепостной стены миной, поляки ворвались в город. Воевода Шеин вместе с товарищами отчаянно защищался, но был взят в плен7. Вильна и вся Польша торжественно и пышно праздновала взятие Смоленска. Особую привлекательность празднеству придавало зрелище несчастного Василия Шуйского, олицетворявшего своим появлением унижение Москвы перед Речью Посполитой. Это произошло 11 октября 1611 года.
Аппетит приходит во время еды, и 8 октября 1611 года все без исключения сенаторы одобрили продолжение войны с Россией (impresa di Moskova – так называли её святые отцы Ватикана) и даже выступили за то, чтобы компенсировать Сигизмунду потраченные им на войну 1 миллион и 100 тысяч флоринов из личных средств.
Сигизмунд для покорении Москвы, пишет Пирлинг, решил пользоваться и силой, и дипломатией, рассчитывая на переговоры с боярами, принявшими сторону Польши. Он, конечно, мало верил в успешный исход этих переговоров, потому что осуществить переход в православие Владислава было просто невозможно. Король решил пока действовать вместо сына, временно взяв власть, не спешить с обсуждением религиозных вопросов и посоветоваться с папой.
Между тем в Москве весной 1611 года произошли большие события: москвичам надоели поляки и они подняли восстание против их засилья. На помощь восставшим пришло ополчение Минина-Пожарского, и с изгнанием поляков в 1612 году из Москвы для России началась новая пора возрождения государственности и народного единения. Сигизмунд начал понимать угрожавшую ему опасность и согласился, наконец, на передний план выставить кандидатуру сына как на возможность обуздать московитов и приблизиться к цели, намеченной в начале войны. В конце 1612 года он приказал литовскому гетману Ходкевичу приблизиться к Москве и привёз туда Владислава.

Изгнание поляков из Кремля Пожарским, художник Лисснер Эрнест-Николай-Иоганн Эрнестович
Уже в Вязьме король получил весть о капитуляции польского гарнизона в Кремле и о полном контроле столицы русскими войсками. Тем не менее, король продолжил свой путь до Волоколамска, демонстрируя въезд своего сына как царя России. Получилось жалкое подобие триумфального шествия из Путивля в Москву 7 лет тому назад Лжедмитрия: народ не выходил встречать Владислава, посланцев принца в Москву не пустили, пропольски настроенные бояре куда-то исчезли, и переговоры вести было не с кем.
Сигизмунду пришлось вернуться ни с чем в Варшаву, приберегая свой козырь – сына Владислава – на будущее. В Москве произошло избрание царя Михаила Романова. К полякам были направлены послы, предлагавшие заключить мир и обменяться пленными, среди которых находился отец царя Михаила архиепископ Филарет, отправленный в своё время для переговоров к Сигизмунду в качестве посланника от московских бояр. Переговоры окончились ничем, и формально война с поляками продолжилась.
Сигизмунд не признавал избрания Михаила Романова, считая его незрелым сыном попа, не способным управлять государством и посаженным на трон не знатными боярами, а неизвестно какими избирателями. Законным царём России, по его мнению, был Владислав, которому присягнул народ и бояре.

Портрет царя Михаила Фёдоровича кисти Иоганна Генриха Ведекинда
Эту версию Сигизмунд излагал и германскому императору Матвею (Маттиасу) (1557—1619), избранному Москвой в качестве посредника для сношений с Польшей. Император внушал Сигизмунду, что лучшим средством покончить с войной было признание Михаила Романова законным царём, и это выводило короля из себя. 25 июля 1616 года сейм одобрил войну с Московией, и во главе польской армии встал Владислав. Он с воодушевлением взялся за решение задачи, с которой не справился отец, и так был уверен в успехе, что затеял с папой переписку о том, чтобы с его помощью утвердить церемонию его коронования на московское царство. Он хотел управлять Россией, не поступаясь своей католической совестью и не оскорбляя одновременно православное чувство русского народа.
Павел V предоставил решать этот вопрос комиссии инквизиции. Членам комиссии уже пришлось давать ответ на такие же вопросы в отношении Лжедмитрия, так что он последовал незамедлительно – короноваться католик Владислав по православному обычаю не мог. Правда, Павел V разрешил участвовать в церемонии греко-униатскому священнику, после чего Владислав мог приобщиться по православному обычаю. Естественно, русская церковь никакого униата к такому святому делу допустить не могла.
Никаких подвигов Владислав в своём походе на Москву не совершил, военные действия велись вяло, так что дело в декабре 1618 года закончилось подписанием Деулинского мира сроком на 14 лет. Условия мира были более чем выгодные для поляков – за ними остались Смоленск, Новгород-Северский, Чернигов и другие города, но русские были утомлены войной и последствиями смуты и пошли на такие условия.
Поляки отпустили из плена Филарета Романова и вернули русским несколько крепостей. «Честь была спасена, но народная вражда не угасла», – заключает свой обзор войны П. О. Пирлинг8.
Глава 3. Дела малороссийские после Переяславской Рады9
Присоединением Левобережной Украины в 1654 году и последовавшим завоеванием большинства польских городов королём Швеции Карлом Х на Польше как крупном игроке в Европе можно было бы, по мнению Матвеева, ставить крест. Но..
Но тут Московское государство совершило непоправимую ошибку и вступило в войну со Швецией. Эта ошибка потом дорого обошлась Москве. Кто надоумил царя Алексея Михайловича на эту войну, сказать однозначно трудно, но Павел Александрович Матвеев полагает, что без влияния патриарха Никона тут не обошлось. И, возможно, без А. Л. Ордин-Нащокина тоже, добавили бы мы.
Выдержать противостояние со Швецией и Польшей, за которой стояли Крымское ханство и Турция, казна русского государства выдержать не могла. После кончины «старого Хмеля» в 1657 году на Украине начались сплошные невзгоды: «черкасы изворовались», измена гетманов Выговского и «Юраски» Хмельницкого, поражение московского войска под Конотопом и Чудновым, а в Москве у Алексея Михайловича Тишайшего началась распря с любимым другом патриархом Никоном.
Боярин и оружничий царя Богдан Матвеевич Хитрово (1615—1680) и входивший в силу «русский Ришелье» Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин (1605—1680) смотрели на результаты Переяславской Рады 1654 года как на большую обузу для московского государства. Если первый из них никакой особой позитивной программы не имел, а был обычным ловким царедворцем, державшим хвост по ветру, то у второго были и программа, и мысли, и дипломатические способности. Он ещё при Михаиле Фёдоровиче получил богатую практику общения со шведами и естественно считал шведов главным и самым опасным противником Москвы. А. Л. Ордин-Нащокин был большой поклонник Польши и польской культуры, он всегда считал и открыто говорил, что с поляками нужно дружить и вместе с ними «воевать свеев», поэтому лишение Польши Левобережной Украины, особенно при обнаружившейся потом «шаткости черкасов», он считал вредным шагом.

Ближний боярин и воевода Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин
Назначение Афанасия Лаврентьевича начальником приказа Малой России Матвеев считает вряд ли удачным шагом Тишайшего. «Не отступившись от черкас, прочного мира с польским королём не сыскать, а отнятые у Польши черкасские города никакой прибыли не дают, а убытки от них большие», – писал Ордин-Нащокин в докладе царю. И в Малороссии эти взгляды ближайшего советника царя были хорошо известны. Измену и шатания черкас10 П. А. Матвеев однозначно увязывает с тем направлением в политике, которое было принято русским Ришелье (так потом назвали Нащокина наши историки).
В 1663 году, отправляясь на переговоры с поляками в Дубровичи, Ордин-Нащокин настойчиво советовал царю вернуть Малороссию Польше. Это позволило бы, по его мнению, сформировать христианский союз против Турции. Доклад этот пришёлся не по нраву Алексею Михайловичу, хотя он и сам ворчал про «изворовавшихся» черкасов. Со шведами в 1661 году уже был заключён Кардисский мир, а в Малороссии после избрания гетманом Ивана Мартыновича Брюховецкого дела стали принимать благоприятный оборот. В ответном письме царь писал Нащокину, что все рассуждения его принимает, кроме одного – вернуть Левобережную Украину Польше. «Собаке не достойно есть и одного куска хлеба православного (т. е. продолжать удерживать Западную Украину за Польшей), а уж тем более не подобает отдавать ей и второй кусок – Малороссию. Того, кто сделает это, настигнет кара Божья». Надеюсь, продолжал он, нас избегнет такая кара, и господь «не выдаст своего хлеба собаке»11.