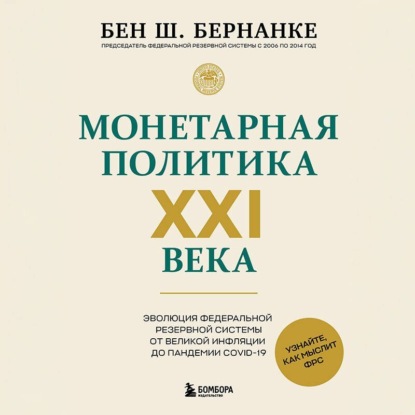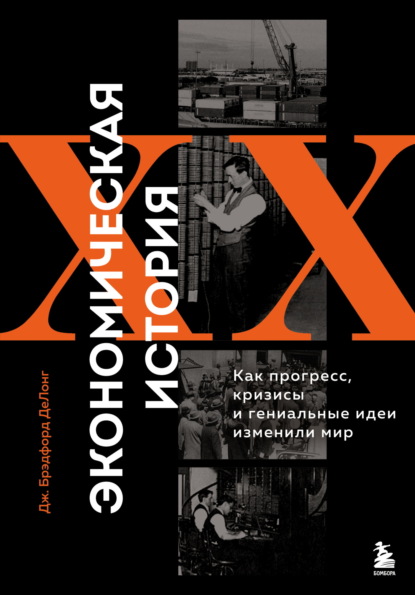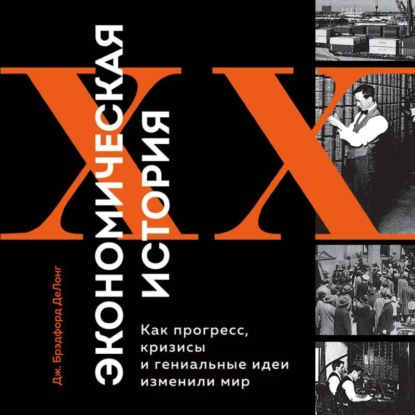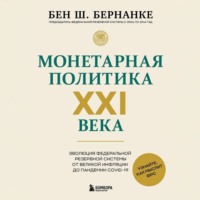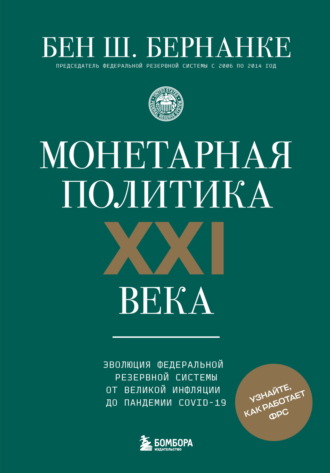
Полная версия
Монетарная политика XXI века. Эволюция Федеральной резервной системы от Великой инфляции до пандемии COVID-19
Вскоре после достижения соглашения Трумэн назначил Мартина-младшего на место уходящего в отставку главы ФРС, Томаса Маккейба, покинувшего свой пост. После жестких разногласий между Минфином и ФРС Маккейб не считал возможным продолжать работать с администрацией. Трумэн надеялся на Мартина, полагая, будто его предыдущая должность в Минфине, будет служить политическим целям правительства, и впредь поддерживая мягкую денежно-кредитную политику в ФРС.
Однако Мартин оказался человеком честным и несгибаемым и отказался идти на поводу у Белого дома. Он был не готов пожертвовать новоприобретенной свободой ФРС в принятии решений. Трумэн, впоследствии случайно столкнувшись с Мартином, проронил лишь одно слово: «Предатель». Пол Волкер, занимавший пост главы Федерального резерва в 1980-е, тоже не отличался слабохарактерностью и позднее писал, что Мартин, «хоть ему и были свойственны дружелюбие и скромность, проявлял железную твердость, когда дело касалось политики и защиты независимости ФРС». Этой твердости было суждено подвергнуться испытаниям.
Мартин не был убежденным сторонником той или иной экономической школы. Его подход был прост: денежно-кредитная политика должна реагировать на изменения экономического цикла, противодействуя и рецессиям, и чрезмерным подъемам деловой активности, а также избегать избыточной инфляции. На практике это означало повышение процентных ставок в период экспансий, чтобы инфляция не достигла опасного уровня, и их понижение во время рецессий или замедления экономического роста. Мартину принадлежит знаменитое сравнение Федерального резерва с контролирующим подростков взрослым, который велит «убрать со стола чашу с пуншем в самый разгар вечеринки». Как считал Мартин, низкая инфляция способствует здоровому экономическому развитию, по крайней мере, в долгосрочной перспективе, а не только выступает компромиссом между ростом и уровнем занятости: «Стабильность цен – неотъемлемое условие устойчивого роста», – заявил он в 1957 году.
Проводя денежно-кредитную политику дабы поспособствовать экономической стабильности и сохранить низкий уровень инфляции, а не поддерживая стоимость доллара, выраженную в золоте, как это было в предыдущие периоды противодействия чрезмерной спекулятивной активности или содействия финансированию госдолга, Мартин помог создать шаблон для работы современных центральных банков. Кристина Ромер[46] и Дэвид Ромер[47] в своих исследованиях утверждали, что денежно-кредитная политика Мартина в 1950-е годы, которая опиралась на движения экономического цикла и при необходимости концентрировалась на предупреждении инфляционного давления, больше походила на политику 1980-х и 1990-х, чем на проводившуюся в конце 1960-х или в 1970-е годы. Несомненно, здесь помогли и убеждения президента Эйзенхауэра[48], избранного в 1952 году, поскольку он тоже верил в важность поддержания низкого уровня инфляции. А потому не сопротивлялся действиям Мартина по антиинфляционным повышениям ставок в то десятилетие.
При администрации Кеннеди политическая среда разительно изменилась. Еще бо́льшие изменения произошли, когда Джонсон занял пост президента после убийства Кеннеди. До 1960 года Закон о занятости от 1946 года, который обязывал правительство добиваться «максимального уровня занятости», имел, скорее, номинальный, рекомендательный характер. Администрация Кеннеди же, в особенности Совет экономических консультантов Белого дома – орган, созданный в рамках вышеупомянутого закона, – наоборот, стремилась сделать этот закон практическим. Они внесли количественное определение максимального уровня занятости или полной занятости – этот термин получил большее распространение. Государственный аппарат полагал таким образом задать явную цель для экономической политики и определить планку ее успешности.
Но в те годы, как и сейчас, определение полной занятости относилось скорее к области искусства, чем к науке. В 1962 году, взяв за основу кривую Филлипса, Артур Оукен, влиятельный экономист, консультировавший и Кеннеди, и Джонсона, определил полную занятость как самый высокий уровень, которого можно достичь «без инфляционного давления». И так как в 1950-е годы – период без высокой инфляции – вне рецессий уровень безработицы зачастую составлял 4 % или меньше, Совет экономических консультантов решил, что и при полной занятости он должен оставаться на том же уровне. Эта оценка получила широкое распространение среди разработчиков политики и экономистов в целом.
Фактический же уровень безработицы превысил 7 % вскоре после инаугурации Кеннеди и не опускался ниже 5,5 % в конце 1962 года, из чего был сделан вывод о значительном спаде активности на рынке труда. Считалось, будто страна страдает от разрыва объема производства – недостатка продукции по сравнению с объемом, который мог бы быть произведен при полной занятости. Согласно оценке Оукена, рост безработицы на один процентный пункт соответствовал примерно 3 % потерь объема производства – это правило стало известно как закон Оукена. Совет экономических консультантов утверждал, что устранение разрыва объема производства должно стать приоритетным, и достичь этой цели можно без инфляционного давления, если уровень безработицы будет равен примерно 4 %.
Данное Оукеном определение полной или максимальной занятости, а также уровень безработицы, сигнализирующий о полной занятости, остаются значимыми концепциями в современной макроэкономике. В наши дни экономисты называют максимально низкий уровень безработицы в сочетании со стабильной инфляцией естественным уровнем безработицы – иногда этот термин сокращается как u*[49]. Термин «естественный уровень» обманчив, так как подразумевает неизменность этого показателя. На деле же естественный уровень безработицы может меняться со временем в силу изменений демографического состава трудовых ресурсов или, например, структуры экономики. И понижение этого уровня путем, скажем, политики, направленной на повышение квалификации или подбор работодателей и работников, может привести к более оптимальным его значениям. Тем не менее термин «естественный уровень» получил широкое распространение.
Хотя концепция естественного уровня безработицы несильно изменилась с 1960-х годов, опыт показал, что на практике оценки этого показателя могут быть крайне неопределенными. А потому ориентироваться на них, определяя будущий курс денежно-кредитной политики, следует с великой осторожностью. Эта неопределенность имеет прямое отношение к нашей истории. Да, Совет экономических консультантов широко распространял информацию о показателе естественного уровня безработицы в 4 % с 1960-го по 1970-е годы. Но фактический уровень безработицы, который можно было бы безболезненно поддерживать «без инфляционного давления», выражаясь словами Оукена, оказался гораздо выше. И это повлекло за собой серьезные последствия. Бюджетное управление Конгресса, занимающееся ретроспективным анализом потенциального объема производства и соответствующего естественного уровня безработицы, на сегодняшний день оценивает u* около 5,5 % в 1960-е годы и около 6 % в течение 1970-х. Если современная оценка, составленная с учетом приобретенного опыта, верна, то разрыв объема производства в то десятилетие был не просто гораздо меньше, чем полагали тогдашние политики, но и вовсе отрицательным, так как объем производства значительно превосходил потенциал экономики. По меньшей мере, становится ясно, что разработчики политики тех лет чрезмерно полагались на свои оценки показателя u*, не отступая от них даже при росте инфляции.
В соответствии с кейнсианским консенсусом того времени, призывающем фискальную политику брать на себя инициативу в стабилизации экономики – эту позицию поддерживал тот факт, что огромные расходы военного времени решительно прекратили Великую депрессию, – администрация Кеннеди в попытке сократить разрыв объема производства сосредоточилась на урезании налогов. То есть выбрала фискальную меру, отказавшись уделить должное внимание денежно-кредитной политике. Администрация, как и многие члены Конгресса, полагала, что ФРС будет поддерживать усилия правительства по стимуляции роста. С 1961 года начались регулярные совещания группы экспертов под неофициальным названием «Квадриада». В нее входили глава ФРС, министр финансов, председатель Совета экономических консультантов и иногда президент. Целью «Квадриады» была координация экономической политики, и, по мнению Белого дома, это означало поддержку государственной политики со стороны ФРС. В связи с этим президенты Кеннеди и Джонсон назначали на должности в совете управляющих ФРС людей, разделяющих их экспансионистские взгляды, пытаясь взять Мартина, возглавлявшего резерв, в кольцо.
Мартин скептично относился к новой кейнсианской ортодоксальности. Он считал ее чрезмерно оптимистичной в вопросах, которые касаются возможностей политики на практике. В начале 1960-х инфляция оставалась на скромном уровне. Тем не менее в мае 1965 года, после проведенного Кеннеди и Джонсоном смягчения налоговой политики и увеличения количества войск во Вьетнаме, Мартин выразил обеспокоенность вероятными инфляционными последствиями «постоянных дефицитов и легких денег». И в декабре 1965 года, когда безработица достигла критического уровня в 4 % – что даже по оценкам Белого дома представляло собой полную занятость, – совет управляющих ФРС проголосовал в пользу предложения Мартина предпринять весьма публичные превентивные меры против инфляции. Было объявлено о повышении учетной ставки на половину процентного пункта. Как и в 1950-е годы Мартин видел свою главную роль в том, чтобы вовремя убрать со стола пунш.
Президент Джонсон пришел в ярость. После объявления о решении ФРС он вызвал Мартина к себе на ранчо в Техасе и отчитал. «Мартин, наши парни умирают во Вьетнаме, а ты не желаешь печатать деньги, когда они так нужны», – заявил Джонсон. Давление последовало и со стороны демократов в Конгрессе. Они утверждали, что такое закручивание гаек неоправданно замедлит появление новых рабочих мест. Некоторые законодатели утверждали, будто разработчики политики должны принять четырехпроцентную безработицу не за минимум, а за максимально допустимый уровень.
В поисках компромисса Мартин проконсультировался с Советом экономических консультантов при Джонсоне. Он продолжал утверждать о повышенной инфляционной опасности. Мартин предложил Конгрессу и администрации ужесточить фискальную политику, замедлив «перегретую» экономику и ограничив инфляционное давление. Тогда, по его словам, ограничительная денежно-кредитная политика может и не понадобиться. Члены Совета экономических консультантов выслушали аргументы Мартина и согласились, что при необходимости предпочтительнее было бы прибегнуть к мерам фискальной политики. Однако президент не желал поддерживать законы, повышающие налоги или урезающие доходы.
Соответственно, ФРС продолжила повышать процентную ставку в 1966 году и, пользуясь своим влиянием надзорного органа, надавила на банки с целью ужесточения стандартов кредитования. Результаты превзошли все ожидания Мартина. Экономика замедлилась практически мгновенно – в частности, рынок недвижимости, особенно чувствительный к изменениям процентных ставок и доступности кредитов. В ФРС и Белом доме забили во все колокола, осознав вероятность обширной рецессии.
В ответ на уверения Совета экономических консультантов в том, что Джонсон попросит Конгресс повысить налоги, помогая погасить инфляционные риски, Мартин пошел на попятный. Он отменил предыдущие меры ФРС по ужесточению политики. Однако, сочтя повышение налогов политически невыгодным решением, Джонсон не выполнил обещанное.
И в 1967 году опасность чрезмерной рецессии миновала, но опасения об инфляции продолжили набирать оборот, в результате чего возобновилось противостояние ФРС и Белого дома. Осенью резерв под руководством Мартина снова начал закручивать гайки. Президент в ответ все же согласился повысить налоги. Политическая среда в 1968-м – год, когда произошли убийства Мартина Лютера Кинга-младшего и Роберта Ф. Кеннеди, протесты и гражданские беспорядки, а также президентские выборы – не располагала к компромиссу с Конгрессом. Но из-за опасений по поводу инфляции и стабильности доллара в июне Джонсон подписал законопроект, включавший временное повышение подоходного налога на 10 %. Предположив, что повышение налога замедлит экономику, Мартин снова приостановил кампанию по ужесточению политики, понизив учетную ставку в августе.
Однако он ошибся в расчетах. Хотя повышение налога и привело к кратковременному профициту государственного бюджета, оно ограничило спрос гораздо меньше, чем того ожидали ФРС и Совет экономических консультантов. Зная о временном характере повышения налогов, большая часть людей и предприятий платили разницу из своих сбережений и поддерживали свой уровень расходов. К концу 1968 года уровень безработицы упал до 3,4 %, а инфляция продолжала расти. Вновь изменив курс, ФРС вернулась к ужесточению денежно-кредитной политики, но срок Мартина к тому моменту подходил к концу. В январе 1970 года, покидая свой пост, он созвал остальных управляющих в библиотеку совета и сказал им: «Я не справился». В 1969 году уровень инфляции составил чуть меньше 6 %.
Действительно ли Мартин не справился со своими обязанностями? Великая инфляция и правда началась при нем. Частично из-за того, что ФРС, рассчитывая на более ограничительную фискальную политику, повышала процентные ставки запоздало и непоследовательно. Однако в целом Мартин был невольным соучастником, находясь под сильнейшим политическим давлением. И он сопротивлялся чрезмерному расширению экономики по мере возможности. Инфляция второй половины 1960-х годов была по большей части результатом фискальной политики «пушек и масла» и, как и опасался Мартин, излишнего оптимизма в отношении естественного уровня безработицы и способности новой кейнсианской политики точно регулировать экономику.
В 1970-х все было совсем по-другому. Когда на место Мартина пришел Артур Бернс, Федеральная резервная система предпринимала лишь ограниченные усилия по поддержанию независимости в выборе политики. И в силу как идеологических, так и политических причин резерв допустил целое десятилетие высокой и волатильной инфляции.
Глава 2
Бернс и Волкер
В ноябре 1969 года, после окончания срока Мартина, президент Ричард Никсон назначил Артура Бернса на пост главы ФРС. Приказ вступил в силу в феврале 1970 года.
Бернс, родившийся в 1904 году под именем Бернсайг, в детстве эмигрировал вместе с родителями в США из Галиции[50]. Одетый в извечный твидовый костюм и с трубкой в зубах, Бернс – преподаватель Колумбийского университета, и у него учился Алан Гринспен, впоследствии тоже возглавивший ФРС, – был выдающимся ученым-экономистом и впечатление производил соответствующее. В молодые годы Бернс в соавторстве со своим научным руководителем Уэсли Митчеллом опубликовал несколько инновационных и влиятельных работ с эмпирическим анализом спадов и подъемов экономики. Индекс опережающих экономических индикаторов, который применяют и по сей день, а также принципы определения начала и конца рецессии берут начало из проведенных Бернсом и Митчеллом исторических исследований экономических циклов. Также Бернс занимал пост президента Американской экономической ассоциации[51] и возглавлял Национальное бюро экономических исследований[52].
Однако Бернс не был лишь теоретиком. Он состоял во многих советах директоров и пользовался доверием администрации Эйзенхауэра, возглавляя Совет экономических консультантов. Он гордился своим умением составлять прогнозы, отточенным в процессе длительного погружения в данные. Его наблюдения и анализ, составленные для Эйзенхауэра, помогли Бернсу завоевать доверие и вице-президента Никсона. И, как и Мартин, Бернс часто предупреждал о потенциальном ущербе чрезмерно высокой инфляции. Его особенно беспокоило влияние инфляции на уверенность бизнеса – движущую силу экономического цикла, по мнению Бернса. Однако, несмотря на профессиональную квалификацию и часто провозглашаемое стремление предотвратить инфляцию, на посту главы ФРС Бернс не хотел слишком уж ужесточать денежно-кредитную политику. Давайте посмотрим, к чему это привело.
Артур Бернс и «муки центрального банка»
Подход Бернса стал понятен вскоре после его вступления в должность. Экономика замедлялась – в 1970 году произошла небольшая рецессия, частично из-за проведенного Мартином ужесточения денежно-кредитной политики, – но инфляция все еще вызывала серьезные опасения, так как за год цены выросли на 5,6 %. Приоритетом Бернса был рост в краткосрочной перспективе, и он отреагировал путем смягчения денежно-кредитной политики. Ставка по федеральным фондам, составлявшая 9 %, когда Бернс принял бразды правления, к осени 1972 года упала до 5 %. Более низкие ставки способствовали восстановлению экономики – уровень безработицы упал с 6 % в середине 1971 года ниже 5 % к концу 1973 года, – но никоим образом не помогли обуздать инфляцию. Она подскочила сразу же после того, как были сняты никсоновские ограничения цен и зарплат. Почему же Бернс пошел на такой шаг?
Здесь определенно была замешана политика. Как и его предшественник Мартин, Бернс испытывал давление со стороны президента, на этот раз Никсона – человека, который назначил его на должность, и от него же зависело повторное назначение Бернса, ожидаемое в 1973 году. Бернс, опять же, был экономическим консультантом Никсона во время предвыборной кампании 1968 года и после выборов стал важной фигурой в Белом доме. Когда он оказался в ФРС, Никсон без малейших колебаний стал использовать эти отношения в своих целях. И так как во время рецессии 1970 года уровень безработицы вырос, президенту хотелось к выборам 1972 года сильную экономику в США. Секретные аудиопленки Белого дома раскрыли, что Никсон, апеллируя к личным отношениям и преданности партии, убеждал Бернса поддерживать мягкую политику в преддверии голосования, и его увещеваниям вторил министр финансов Джордж Шульц.
Я не видел убедительных доказательств того, что Бернс действительно согласился на требования Никсона. Но факты есть факты. Перед выборами и денежно-кредитная, и фискальная политика были смягчены. В своем дневнике Бернс признает грубое давление со стороны Никсона: «Убежден, президент пойдет на все, лишь бы вновь выиграть выборы, – писал Бернс. – Нападки Никсона и его прихвостней на ФРС продолжатся, а может, и усилятся». Бернс обозначил и свое стремление к независимости: «К счастью, понимает это президент или нет, я все еще его лучший друг. Сохраняя твердость, я принесу пользу экономике – а значит, и ему самому». Однако аудиозаписи свидетельствуют о том, что Бернс заранее сообщал президенту о решениях ФРС и обсуждал с ним свои политические соображения слишком подробно, в наши дни эту степень откровенности можно назвать крайне неуместной. Так же из записей дневника можно заподозрить в поступках Бернса скорее линию поведения члена администрации президента, нежели председателя ФРС. Он разрабатывал политическую стратегию на совещаниях в Белом доме и обсуждал политические инициативы, не имеющие отношения к сфере деятельности резерва. Разве так поступает глава независимого центрального банка?
При этом махинации Никсона не объясняют в полной мере нежелание Бернса решать проблему инфляции. Особенно учитывая, что его сдержанность в этом вопросе продолжилась и после отставки президента в 1974 году. Как утверждал эксперт в истории экономики Роберт Хейзел, а также многие другие, собственные взгляды Бернса на причины инфляции и истинную роль денежно-кредитной политики, скорее всего, подтолкнули бы его к пассивному подходу даже без влияния Никсона.
Хотя Бернс и не считал себя кейнсианцем, он разделял распространенное тогда мнение многих последователей Кейнса о том, что экономика США стала более подвержена инфляции по причинам, не связанным с денежно-кредитной политикой. Эта склонность к инфляции, говорил Бернс, отражалась в растущей способности крупных корпораций и профсоюзов защищаться от рыночных сил. И они ей пользовались, чтобы по своему желанию взвинчивать цены и увеличивать зарплаты. Стремление правительства сохранять полную занятость – которое Бернс поддерживал – еще сильнее упрочило рыночную власть этих акторов, ослабив болезненное влияние периодических рецессий.
Бернс полагал, будто инфляцией движет по большей части сила издержек (то есть способность корпораций и профсоюзов повышать цены и зарплаты), а не спроса (например, рост государственных и потребительских расходов). А потому придерживался убеждения, что денежно-кредитная политика – неэффективный и дорогостоящий прием, и к ней нельзя прибегать как к основному инструменту замедления роста спроса. По мнению Бернса, денежно-кредитная политика сама по себе могла бы остановить инфляцию лишь одним способом: вызвав рецессию такой силы, что влиятельные факторы, устанавливающие размер цен и зарплат, были бы вынуждены уступить. В процессе, заявлял Бернс, многие работники потеряли бы свои должности, а мелкие предприятия, не обладающие значительной рыночной властью, потерпели бы особенный ущерб. Кроме того, подчеркивал Бернс, влияние ограничительной денежно-кредитной политики распределялось бы неравномерно, создавая несправедливые условия для некоторых секторов экономики. «Дорогие» деньги обрушили бы чувствительные к уровню процентных ставок рынки недвижимости и строительных заказов, оказав при этом гораздо меньшее влияние на потребительские расходы и капиталовложения крупных корпораций.
Теория инфляции издержек убедила Бернса, будто введенные государством ограничения, напрямую влияющие на способность профсоюзов и предприятий повышать зарплаты и цены, будут менее затратным способом остановить инфляцию, в противовес жесткой денежно-кредитной или фискальной политике. И именно благодаря этим взглядам Бернс стал одним из первых убежденных сторонников контроля за ценами и зарплатами, который в то время назывался политикой регулирования доходов.
И действительно, вряд ли Никсон стал бы вводить ограничения без консультаций и одобрения со стороны Бернса. А потому не только Никсон давил на Бернса, но и сам Бернс оказывал значительное влияние на президента. Бернс также отвергал идею, сочетающую контроль за уровнем цен и зарплат с ограничением доходов в целом. Вместо этого он рассчитывал на разделение труда. Политика регулирования доходов должна была взять под контроль цены и зарплаты, дав денежно-кредитной и фискальной политике возможность способствовать росту экономики и повышению уровня занятости. Особенно важно то, что бернсовская теория инфляции издержек объясняет, как глава ФРС мог своими глазами наблюдать постоянный рост инфляции и не увидеть очевидного. Экономика уже превысила собственный потенциал и, соответственно, существующие денежно-кредитная и фискальная политики были чрезмерно экспансионистскими.
И когда в 1973 году произошли резкие изменения цен на нефть, заставившие, в свою очередь, вырасти и инфляцию, Бернс лишь укрепился в своем мнении. В конце концов увеличение цен казалось ему результатом геополитики и международных экономических условий, а не дешевых денег или «перегрева» внутренней экономики США. Бернс отреагировал на этот скачок инфляции повторным введением комплексного регулирования цен и зарплат, но слабые показатели прошлых попыток дискредитировали эту меру в глазах американцев. Да, стараясь сдержать рост инфляции в 1973 году ФРС несколько раз повышала процентные ставки, но сразу же отменяла эти изменения, стоило начаться рецессии. Эта стратегия не принесла результатов и привела к неуклонному росту инфляции и инфляционных ожиданий.
Как признал Бернс, состояние экономики в стагфляционные 1970-е годы было далеко от совершенства. Он говорил, что инфляция обходится дорого и дестабилизирует, но и безработица оказывает пагубное влияние. По мнению Бернса, общественность не потерпела бы уровень безработицы, который позволил бы в полной мере контролировать инфляцию с помощью одной только денежно-кредитной политики. И в любом случае принимать такие решения следовало не ФРС.
Именно на это Бернсу намекал и Конгресс. В 1976 году, хотя ФРС и проводила смягчение политики, а экономика восстанавливалась, сенатор от штата Миннесота Хьюберт Хамфри и его сторонники возмущались действиями центробанка. Они говорили, будто ФРС не предпринимает достаточных мер для борьбы с безработицей. Хамфри выступал за конкретные плановые показатели занятости для правительства – в том числе гарантии вакантных бюджетных рабочих мест при необходимости – и увеличения полномочий президента при утверждении денежно-кредитной политики. Его предложения не были приняты, однако Хамфри вместе с сенатором от штата Калифорния Огастесом Хокинсом продолжал добиваться принятия такого законопроекта.
Значительным последствием этих нескончаемых споров стало принятие в 1977 году поправок к закону о Федеральном резерве, обязывающих его проводить денежно-кредитную политику так, чтобы обеспечить «стабилизацию цен, максимальную занятость, а также умеренный размер долгосрочных процентных ставок». Но так как решение первых двух задач и так влекут за собой умеренные долгосрочные процентные ставки, то третью обычно игнорировали как избыточную. И лидеры ФРС часто упоминали двойной мандат организации: содействовать стабилизации цен и обеспечивать достаточное количество рабочих мест. Двойной мандат сам по себе был компромиссом между демократами и республиканцами. Первым принадлежало большинство и в Палате представителей, и в Сенате в течение 1970-х годов, и они добивались большего внимания к уровню занятости. Вторые же настаивали на не меньшем значении стабильности цен.