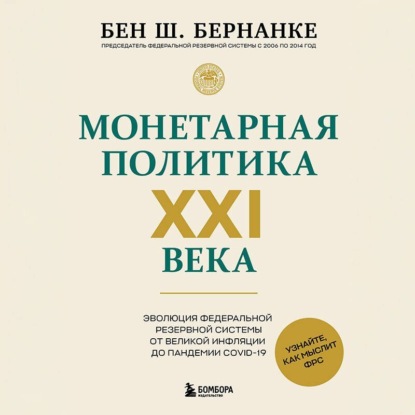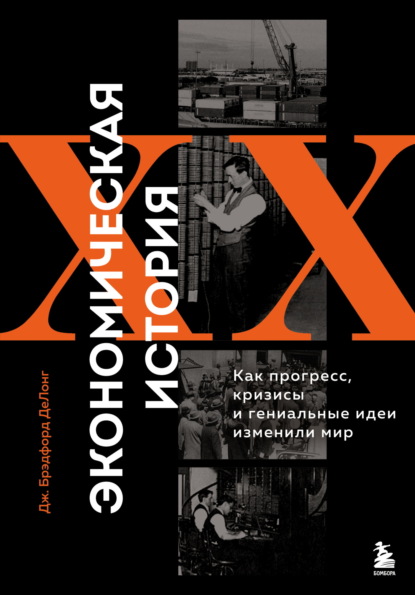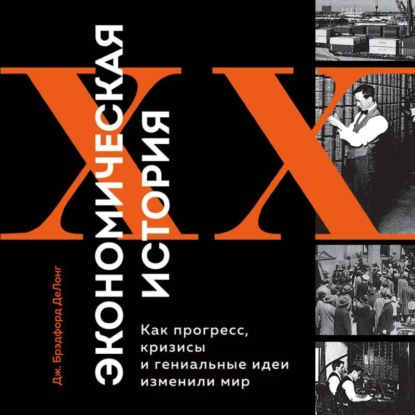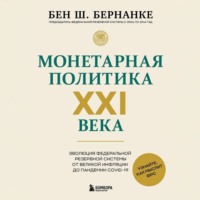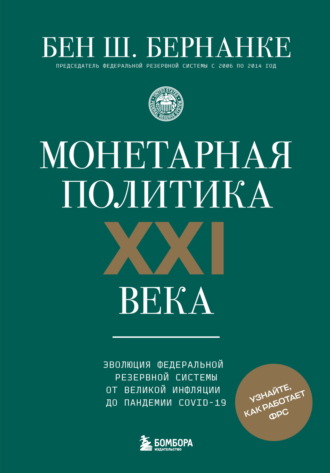
Полная версия
Монетарная политика XXI века. Эволюция Федеральной резервной системы от Великой инфляции до пандемии COVID-19
Кейнс был сторонником активного использования фискальной политики для борьбы с безработицей. Новый президент, следуя рекомендациям консультантов, предложил широкомасштабное снижение налогов для стимуляции потребительских и предпринимательских расходов. Кеннеди был убит, не успев воплотить свою идею в жизнь, но его преемник Линдон Б. Джонсон[32] перехватил эстафету и снизил налоги уже в 1964 году.
Этот шаг считался успешным повсеместно. Он помог снизить уровень безработицы, достигший пика в 71 % в середине 1961 года, в начале президентского срока Кеннеди, до 4 % к концу 1965 года[33]. С точки зрения макроэкономической политики было бы логично отпустить педаль, но внешняя политика и социальные задачи получили больший приоритет, чем экономическая стабильность. При Джонсоне фискальная политика активизировалась еще сильнее, необходимо было удовлетворить и повышенные расходы на Вьетнамскую войну[34], и новые на амбициозные программы президента под названием «Великое общество»[35]. Президенту не хотелось выбирать, а потому он сосредоточился и на пушках, и на масле. Количество американских войск, размещенных во Вьетнаме, выросло с 23 000 в 1964 году до 184 000 в 1965-м, а к 1968 году превысило полмиллиона, что обходилось стране и так недешево. А тем временем, в январе 1964 года, Джонсон объявил «войну с бедностью», и уже к 1965-му запустил программы медицинского страхования Медикэр и Медикейд, тем самым еще больше повысив финансовую нагрузку правительства, ведь теперь нужно было оплачивать медицинские расходы пенсионеров и малоимущих граждан. Да, многие программы «Великого общества» в итоге принесли значительные плоды, в том числе серьезное снижение уровня бедности среди американцев старше 65 лет, но при этом они увеличили объем государственных расходов.
По мере того как экономика активизировалась, а уровень безработицы падал (примерно до 3,5 % в 1968–1969 годы), ускорился рост зарплат и цен, вполне соответствуя простой кривой Филлипса. В качестве примера можно привести сферу здравоохранения: при росте спроса на медицинские услуги, вызванного появлением социальных программ Медикэр и Медикейд, темпы роста цен на платные медицинские услуги взлетели с 4 % в 1965 году до 9 % в 1966 году в связи с ростом зарплат врачей[36].
Тем временем номинальные расходы на оборону тоже росли: на 44 % в период с 1965 по 1968 год, в результате чего военные подрядчики стали наращивать производство и увеличивать штат. Влияние инфляции на экономику можно было бы смягчить за счет повышенных налогов и покрыть хотя бы часть увеличившихся расходов государства, снизив тем самым покупательную способность частного сектора. Но война не пользовалась популярностью, и Джонсон был против значительного повышения налогов из страха, что такой шаг еще больше подорвет общественную поддержку. В 1968 году президент одобрил повышение подоходного налога физических лиц и корпораций на 10 % сроком на один год, но эта мера не принесла плодов, поскольку была исключительно временной.
Конечно, фискальная политика путем увеличения налогов или урезания расходов – не единственный инструмент, способный усмирить неконтролируемую инфляцию. Для этих целей также можно использовать и денежно-кредитную политику. В 1960-е годы более жесткая позиция государства в форме повышенных процентных ставок могла бы снизить темпы жилищного строительства, капиталовложений и других расходов частного сектора в достаточной степени, чтобы компенсировать расширение федеральных расходов. Однако по причинам, которые мы разберем далее, ФРС не стала в должной мере использовать этот рычаг, хотя могла бы с помощью него компенсировать мощь нарастающей инфляции.
Ричард Никсон[37], преемник Джонсона в 1968 году, осознавал проблему растущей инфляции, но, как и его предшественник, хотел избежать политических последствий ужесточения фискальной или денежно-кредитной политики, особенно после того, как экономика пережила небольшую рецессию в 1970 году. Спустя несколько лет Рэй Фэйр[38] задокументировал мощный эффект экономического роста на итоги президентских выборов, но Никсон понял эту связь интуитивно, не прибегая к помощи эконометрических моделей.
Был ли способ справиться с растущей инфляцией, не замедляя экономику? Давайте посмотрим. С прицелом на приближающиеся выборы 1972 года Никсон после некоторых колебаний воспользовался полномочиями, предоставленными ему Конгрессом в 1970 году, и одобрил прямое управление зарплатами и ценами. Программа стартовала 15 августа 1971 года с трехмесячной заморозки, именуемой «фаза один». После этого правительство приступило к изменениям правил для будущего уровня цен и зарплат. Фаза программы, именуемая второй, длилась до января 1973 года, ограничивая рост зарплат до 5,5 % и требовала обосновывать увеличение большинства цен перед Комиссией ценообразования. Третья фаза должна была стать переходным этапом между контролируемым и добровольным ограничением цен и зарплат. Но после резкого увеличения стоимости продуктов питания и топлива, вновь подстегнувшего инфляцию, в июне 1973 года администрация президента объявила новую заморозку. На этот раз на два месяца. После второй заморозки последовала четвертая фаза, период выборочного освобождения некоторых цен от государственного контроля. И наконец в апреле 1974 года правительство отказалось от программы вовсе.
А что же общественность? Сперва идея государственного контроля пользовалась популярностью. Программу восприняли как признак того, что правительство наконец предпринимает серьезные меры по борьбе с инфляцией. Но в итоге контроль обернулся провалом, который дорого обошелся экономике страны.
В рыночной экономике зарплаты и цены предоставляют ключевую информацию, координируя решения работников, производителей и потребителей. Например, высокая относительная стоимость товара стимулирует производителей производить его больше, а потребителей – использовать его меньше. Разрушив этот координационный механизм, контроль за ценами и зарплатами нанес значительный ущерб. После внедрения никсоновских контролирующих мер грянули дефициты потребительских товаров и важных производственных ресурсов. Например, фермеры, оказавшись между молотом и наковальней растущих цен на корма (устанавливающихся на мировых рынках бесконтрольно) и ограничений на розничные цены на говядину и птицу, вынуждены были просто забивать скот вместо того, чтобы продавать себе в убыток. А магазинные полки тем временем оставались все так же пусты. Государственная программа контроля набирала все больше противников. Фирмы выискивали лазейки или лоббировали свои интересы, желая попасть в список исключений из правил.
Продолжительного эффекта на инфляцию государственный контроль тоже не возымел – уровень инфляции слегка снизился с 1971 по 1972 год, но после снятия ограничений опять пошел вверх. Бороться с инфляцией таким образом было все равно что охлаждать перегревшийся двигатель, отключив датчик измерения температуры.
Для успеха мероприятия государственный контроль должен был сопровождаться мерами по снижению общего спроса. Можно было уменьшить правительственные расходы или ужесточить денежно-кредитную политику. Например, контроль за ценообразованием военного времени обычно сопровождается нормированием (когда определенные товары продаются по карточкам) и мерами по снижению потребительской покупательной способности (повышением налогов, продажей облигаций военных займов). В военное время помогает и соблюдение правил из патриотических чувств.
Но избирательная кампания 1972 года была уже в самом разгаре, а действий по ограничению совокупного спроса так никто и не предпринял. Наоборот, в преддверии выборов проводилась политика бюджетной экспансии, направленная на борьбу с безработицей.
Стратегия Никсона имела успех в одном-единственном аспекте: он был избран на второй срок. Но инфляция продолжала расти. И в совокупности с отказом от государственного контроля за ценами и зарплатами, ее темп ускорили еще два фактора: цены на нефть и человеческая психология.
В октябре 1973 года в ответ на войну Судного дня между Израилем и его соседями арабские производители нефти объявили эмбарго на экспорт. В период с 1972 по 1975 год цена на нефть выросла больше чем вчетверо. Поднявшиеся цены на импортную нефть привели к росту цен на бензин и отопительное сырье. Что, в свою очередь, подтолкнуло вверх цены на товары и услуги, производство которых требовало большого количества энергии. Например, такси и услуги грузоперевозок повысили цены в попытке покрыть увеличившиеся расходы на топливо.
Но в некоторых областях контроль за ценами и зарплатами все еще сохранялся во время эмбарго, и в ноябре 1973 года администрация наложила ограничения на цены в сферах, связанных с нефтью. Совсем не удивительно, что в итоге ценовой потолок привел к дефицитам, в том числе к печально известным очередям за бензином, которые вместе с диско и Уотергейтом превратились в символы эпохи 70-х в США. Например, в 1974 году многие водители могли купить бензин только по четным или нечетным дням месяца – в зависимости от последней цифры на номерном знаке. Иногда в очередях на бензоколонках завязывались потасовки. Мировые цены на нефть оставались на высоком уровне в течение следующих нескольких лет, несмотря на значительное замедление мирового роста. А в 1979 году в результате Исламской революции[39] и свержения шаха вновь начались перебои в поставках, что привело к росту цен на нефть более чем вдвое и еще одному всплеску инфляции.
И одновременно со всем этим силу набирал фактор, внушающий не меньшее беспокойство, – новая инфляционная психология. В 1950-х и 1960-х годах уровень инфляции был низким, приучив людей спокойно игнорировать ее, принимая повседневные решения. Но по мере того как инфляция становилась выше, а попытки правительства сдержать ее терпели крах, люди начали привыкать к высоким и волатильным цифрам этого показателя. Работники регулярно требовали компенсации за инфляцию при обсуждении зарплат – зачастую неофициально, но иногда и с помощью механизмов автоматического индексирования (поправки на рост стоимости жизни[40]), распространившейся в 1970-х. У работодателей не было стимула сопротивляться повышению оплаты труда, а их возросшие издержки ложились на плечи потребителей. Подобно самозатягивающейся петле, высокие инфляционные ожидания придавали самой инфляции новое ускорение, в свою очередь, оправдывающее эти ожидания. В лексикон обывателя вошел термин «зарплатно-ценовая спираль».
Нестабильные инфляционные ожидания усугубляли резкие скачки цен на нефть. Однократное увеличение цены на нефть или другой важный ресурс само по себе порождает лишь кратковременный скачок инфляции. Однако если в результате первоначального всплеска люди делают вывод, что цена будет расти и дальше, то их ожидания нередко оборачиваются самосбывающимся пророчеством, так как работники и фирмы начинают учитывать инфляционную психологию при формировании собственных цен и зарплат. Именно этот паттерн, очевидно, и прослеживался в 1970-х годах.
Ожидания стремительно растущей инфляции – это серьезная проблема, но, пожалуй, нет ничего хуже неопределенности. В теории адаптироваться к восьмипроцентной инфляции – если бы она действительно была стабильна и предсказуема – может быть не так уж и трудно. Зарплаты и цены, устанавливаемые отдельными фирмами, могут плавно меняться, учитывая соответствующий рост цен, а процентные ставки могли бы включать в себя соответствующую показателю инфляции надбавку, компенсируя инвесторам и кредиторам ожидаемое снижение покупательной способности.
Но на практике многим достаточно и ситуации относительно стабильной инфляции, чтобы запутаться. Особенно когда речь идет о событиях на долгосрочную перспективу. Например, когда вы планируете выход на пенсию. К тому же, по сути, если инфляция находится на высоком уровне, она не стабильна, а волатильна и непредсказуема.

РИСУНОК 1.1. ИНФЛЯЦИЯ, 1950–1990 годы.
Инфляция, находившаяся на стабильном уровне в 1950-х годах и в начале 1960-х годов, выросла в конце 1960-х годов и поднялась на высокий уровень в 1970-х годах. Она наконец оказалась под контролем в 1980-х годах. Источник: Бюро трудовой статистики и Экономические данные Федерального резерва (FRED[41]).
Именно так и было в период Великой инфляции. В течение одного промежутка времени в 1970-х инфляция резко подскочила с 3,4 % в 1972 году до 12,3 % в 1974, а затем упала до 4,9 % в 1976 и вновь взлетела до 9,0 % в 1978 году. Непредсказуемая инфляция порождает смятение и экономический риск. Люди теряют уверенность в будущей покупательной способности, собственных зарплатах и сбережениях. Особенно уязвимы в этой ситуации семьи с низким доходом, так как они хранят бо́льшую часть своих накоплений в виде наличных или на текущих чековых счетах и имеют меньше возможностей защититься от роста цен. Экономическая незащищенность и неуверенность, порождаемые инфляцией, помогают объяснить, почему к концу 1970-х так много людей считали инфляцию чудовищной проблемой.
Сочетание влияния резких изменений цен на нефть и дестабилизации инфляции имело мощный эффект. Инфляция, казалось, полностью вышла из-под контроля, достигнув 13,3 % в 1979 году и 12,5 % в 1980. Эти два значения и 12,3 % в 1974 году были самыми высокими показателями для США с 1946 года.
Эволюция кривой Филлипса
Ситуация 70-х озадачила бы экономиста, знакомого лишь с первоначальной кривой Филлипса, созданной в 1958 году, предсказывающей инфляцию лишь в сочетании с крайне низким уровнем безработицы. Однако средний уровень безработицы в 1970-е был не особенно низким, а после резкой рецессии в 1973–1975-х вообще вырос до 9 %. Разрушительное сочетание высокого уровня инфляции и стагнации экономического роста окрестили стагфляцией. Кривая Филипса, по крайней мере, в тогдашнем виде, к середине 1970-х, казалось бы, вышла из строя.
Однако экономисты того периода продемонстрировали, что сущность идеи Филлипса можно сохранить, переработав теорию инфляции, и приблизить ее к современному виду с помощью двух разумных поправок.
Во-первых, в основе первоначальной кривой Филлипса лежало предположение (зачастую неявное): большинство изменений уровня инфляции и безработицы отражают перемены спроса на товары и услуги в масштабах всей экономики. Увеличение спроса (те же повышенные правительственные расходы на Вьетнамскую войну и «Великое общество») должно повысить уровень занятости населения, а также цен и зарплат, точно так же как увеличение спроса на картофель должно повысить объем производства, а также уровень цен и занятости в сфере производства картофеля. И если изменения уровня спроса – главная причина экономических колебаний, то в соответствии с кривой Филлипса низкий уровень безработицы должен сопровождаться относительно высокой инфляцией.
Но иногда экономика испытывает потрясения, связанные с предложением, а не спросом; резкое повышение цен на нефть в 1973–74 годы и в 1979 году – классические тому примеры. Повышение цен на нефть в 70-х способствовали инфляции, увеличив стоимость производства и транспортировки многих товаров и услуг. Подобно тому, как насекомые-вредители, портящие урожай картофеля, снижают объем продукции и уровень занятости, так и макроэкономический кризис предложения имеет стагфляционный эффект, повышая уровень и инфляции, и безработицы. Таким образом, чтобы кривая Филлипса должным образом объясняла новые данные, необходимо отличать инфляцию, вызванную кризисами предложения, от инфляции, вызванной кризисами спроса. И экономисты озадачились новой целью.
Они разработали метод, при котором необходимо сконцентрироваться на базовой инфляции – показателе, не учитывающем цены на нефть и продукты питания в силу их волатильности и подверженности кризисам предложения. И теперь этот базовый показатель оказывается более удачным индикатором влияния изменений спроса на уровень инфляции. Поведение базовой инфляции в 1970-е дает основания предположить, что даже по мере того, как потрясения, связанные с предложением, становились все более серьезными, инфляция тем не менее продолжала реагировать на спрос. Например, уровень базовой инфляции значительно снизился после рецессий 1969–1970, 1973–1975 и 1980-х годов, давая основания предположить, что медленный рост и высокий уровень безработицы все равно способны замедлить рост цен, хоть на него и продолжают влиять факторы предложения.
Помимо учета кризисов предложения, вторая поправка к традиционной кривой Филлипса должна была учесть явную роль инфляционных ожиданий. Будущие нобелевские лауреаты Милтон Фридман[42] и Эдмунд Фелпс[43] в конце 1960-х пророчески предрекли возможность самоусиливающейся инфляционной психологии, которая как раз преобладала в 1970-е годы. Фридман в своем президентском обращении к Американской экономической ассоциации в январе 1967 года прогнозировал, что связь между инфляцией и безработицей, отраженная в традиционной кривой Филлипса, станет нестабильной, когда вырастут инфляционные ожидания. А это, по его словам, неминуемо должно было случиться, если инфляция останется на таком же высоком уровне. По мнению Фридмана, люди, ожидающие роста инфляции, постараются защитить свою покупательную способность, повышая требования к зарплате, и в результате уровень цен вырастет примерно в той же степени. Таким образом, увеличение ожидаемой домохозяйствами и фирмами инфляции на 1 % со временем должно привести к реальному увеличению фактической инфляции на тот самый 1 %. Фелпс сделал подобное заявление в своей работе в 1968 году, а 1970-е продемонстрировали актуальность этой теории Фридмана-Фелпса.
Что же влияет на изменения инфляционных ожиданий? Споры об определяющих факторах этого показателя и о том, как центральные банки могут оказывать на них влияние, занимают центральное место в теории и практике денежно-кредитной политики как минимум с 1960-х, если не раньше. Людям свойственно в планировании будущего опираться на прошлый опыт, а потому неудивительно, что неспособность правительства контролировать инфляцию в конце 1960-х и начале 1970-х разрушила любую надежду на будущие низкие показатели инфляции. Инфляционные ожидания населения выросли, способствуя росту фактической инфляции, породив тем самым порочный круг. Рестабилизация инфляции и инфляционных ожиданий на относительно низком уровне теперь казалась сложнейшей задачей.
Скорректированная с учетом опыта 1970-х и идей Фридмана, Фелпса и других, кривая Филлипса до сих пор остается основой рассуждений экономистов об инфляции. Подведем итог: в своей современной форме кривая Филлипса делает три главных утверждения.
Во-первых, экономическая экспансия, движимая увеличением спроса без соответствующего увеличения предложения, в итоге приведет к повышению инфляции касательно и цен, и зарплат. Это идея оригинальной кривой Филлипса, созданной в 1958 году и исследований, последовавших за публикацией его работы на эту тему.
Во-вторых, кризисы предложения имеют стагфляционный эффект, поднимая уровень инфляции, но уменьшая при этом объем продукции и уровень занятости населения как минимум на некоторое время. Именно так было после резких изменений цен на нефть в 1970-е годы.
В-третьих, при неизменном уровне безработицы и кризисах предложения рост инфляционных ожиданий домохозяйств и фирм в итоге повышает темп фактической инфляции в соотношении примерно один к одному. Более высокая инфляция, в свою очередь, повышает и уровень инфляционных ожиданий. Это нередко превращается в порочный круг.
Теперь обновленная версия кривой Филлипса предлагает достаточно разумное объяснение Великой инфляции. Фискальная политика – снижение налогов, а также расходы на военные и социальные нужды – оставалась недопустимо мягкой при президентах Кеннеди и Джонсоне и привела к «перегреву» экономики, дав старт проблеме инфляции. Президент Никсон продолжил стимулировать спрос в надежде умерить инфляцию путем прямого контроля за зарплатами и ценами, но не добился успеха. Никсоновская программа привела к дефицитам и нерациональному распределению ресурсов, погасив инфляцию лишь временно. Она вернулась как только контроль был отменен. Рост мировых цен на нефть и прочие пагубные кризисы предложения пошатнули баланс кривой Филлипса, подтолкнув экономику к стагфляции. Инфляционная психология стала набирать все бо́льшую силу, что привело к самовоспроизводящейся спирали растущей инфляции и растущих инфляционных ожиданий.
Хотя обновленная версия кривой Филлипса помогает объяснить Великую инфляцию, вопрос остается открытым: где был Федеральный резерв? Почему он позволил инфляции выйти из-под контроля? И почему, когда это произошло, ФРС не приняла необходимых мер, чтобы разорвать этот порочный круг? Вот короткий ответ на этот вопрос: сочетание грубой политики и ошибочных взглядов на инфляционный процесс останавливали руководителей Федерального резерва от решительных шагов в критический момент, подталкивая избегать болезненных для населения мер, которые помогли бы обуздать инфляцию.
Уильям Макчесни Мартин, Линдон Б. Джонсон и начало Великой инфляции
Как и в наши дни, в 1960-е и 1970-е годы председатели ФРС оказывали серьезное влияние на политику организации. В течение 27-летнего периода, который включал в себя и начало и пик Великой инфляции, ФРС возглавляли два человека: Уильям Макчесни Мартин-младший (председатель в 1951–1970 годы) и Артур Бернс (председатель в 1970–1978 годы). Чтобы понять, почему ФРС не смогла сдержать Великую инфляцию, необходимо разобраться в идеях и политических силах, оказывавших влияние на решения этих людей.
Мартин-младший, возглавлявший ФРС дольше других председателей, занимал свой пост при пяти президентах. Работа была у него в крови. Его отец, Уильям Макчесни Мартин-старший, оказывал помощь в разработке закона о Федеральном резерве, а после служил на посту президента Федерального резервного банка Сент-Луиса. Мартин-младший изучал в Йельском университете английский язык и латынь, а также серьезно подумывал стать пресвитерианским священником – он всегда воздерживался от курения, алкоголя и азартных игр. Однако он перенял у отца интерес к бизнесу и финансам. Мартин-младший начал карьеру, устроившись к отцу в Федеральный резервный банк Сент-Луиса на должность банковского ревизора. Затем работал и финансистом, и госслужащим. А в 31 год, в 1938 году, занял пост президента Нью-Йоркской фондовой биржи, где работал над восстановлением доверия к фондовому рынку. Позже он возглавлял Экспортно-импортный банк, а также был помощником министра финансов.
Именно на этой должности Мартин-младший возглавил переговоры о знаковом Соглашении между ФРС и Министерством финансов в 1951 году. Ему пришлось взять это на себя, так как сам министр финансов Джон Снайдер был госпитализирован для проведения операции по удалению катаракты. С 1942 года по запросу Минфина ФРС ограничивала и краткосрочные, и долгосрочные процентные ставки, пытаясь снизить расходы правительства на обслуживание военных долгов. Всплеск инфляции, произошедший вслед за окончанием государственного контроля и нормирования, установленных в военное время, был непродолжительным. Тем не менее в течение нескольких последующих лет в ФРС опасались, что низкий уровень процентных ставок чрезмерно стимулирует экономику. А потому организация стремилась снять ограничения.
Так как в Корее разгоралась новая война, Белый дом и Минфин воспротивились предложенным ФРС изменениям денежно-кредитной политики. Последовала яркая публичная борьба, в том числе эпизод, когда президент Трумэн[44] вызвал в Белый дом весь Федеральный комитет по операциям на открытом рынке, чтобы прочитать нотацию. После этого заседания Трумэн выпустил заявление, в котором говорилось, будто Комитет ФРС согласился на продление ограничений. Однако Комитет такого согласия не давал, и Марринер Экклз – бывший глава ФРС, на тот момент входивший в совет управляющих, – выступил в прессе с соответствующим опровержением. В силу непреклонности ФРС и недостаточной поддержки со стороны Конгресса и СМИ администрация президента пошла на попятный. Последующее соглашение с Минфином позволило ФРС постепенно снять ограничения, получив возможность устанавливать уровень процентных ставок для экономической стабилизации, в том числе для контроля инфляции[45].
Изменение роли Федерального резерва, подразумеваемое соглашением, соответствовало набирающему силу политическому и интеллектуальному консенсусу того времени. Опасаясь новой Великой депрессии из-за едва закончившейся войны и под влиянием идей кейнсианства, государственная политика, активно стремящаяся к стабилизации экономики, в том числе инфляции, была необходимостью. В противовес прежней, воспринимающей бумы и рецессии как естественные и неизбежные процессы.
Эти взгляды нашли отражение в Законе о занятости от 1946 года. Он обязывал федеральное правительство принимать все возможные меры для достижения «максимального уровня занятости, производства и покупательской способности». И действительно, желание Конгресса привлечь Федеральный резерв к борьбе за более сильную и стабильную экономику, вероятно, укрепило позицию ФРС в споре с Минфином. С точки зрения резерва соглашение стало поворотной точкой на пути к большей независимости денежно-кредитной политики, что в данном случае означало возможность проводить политику, направленную на достижение более широких целей, а не только лишь на обслуживание финансовых целей самого Минфина.