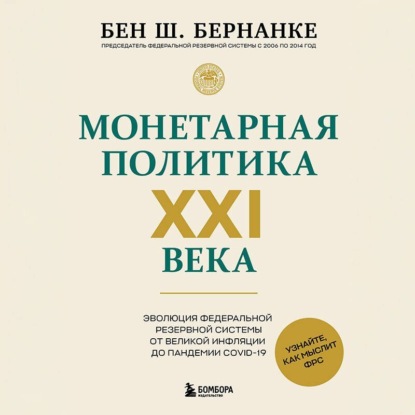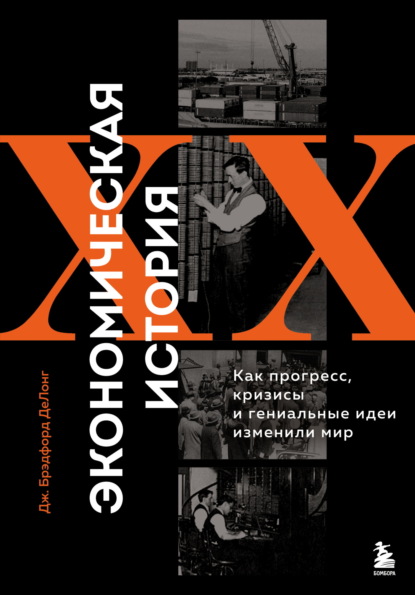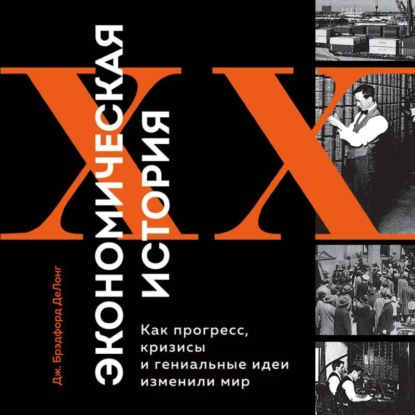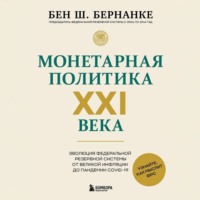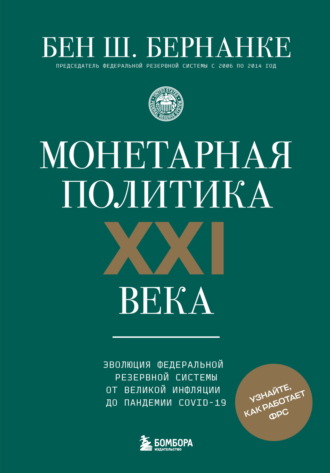
Полная версия
Монетарная политика XXI века. Эволюция Федеральной резервной системы от Великой инфляции до пандемии COVID-19
Однако после войны международные, политические и финансовые условия оставались крайне нестабильны. Дело усугубляли споры о размере репараций, которые должна выплатить Германия, и требования Америки о полной выплате военных займов, выданных Великобритании и Франции. Эти конфликты, в свою очередь, поколебали уверенность в восстановленной мировой денежно-кредитной системе, в значительной степени опиравшейся на взаимное доверие и сотрудничество. По мере того как росли страх и неопределенность, правительства и инвесторы прекращали удерживать фунты стерлингов и прочие заменители золота и старались приобрести реальные слитки металла. Началась всемирная «борьба за золото». Скупалось все, в том числе то, что хранилось в центральных банках. Вместе со всемирной нехваткой золота денежные массы и цены в странах, поддерживающих золотой стандарт, стали рушиться. Так, цены на товары и услуги в США упали на 30 % в 1931–1933 годы.
Из-за дефляции уровня цен многие должники обанкротились. Представьте, каково было фермерам, которые пытались выплачивать ипотеку, а цены на их продукты стремительно падали. Это добило финансовую систему, а вместе с ней и экономику. Перепуганные вкладчики массово бросились снимать деньги со счетов, что привело к волне краха банков. В США небольшие кредитные организации закрывались тысячами, усугубляя бедственное финансовое положение. Это еще сильнее уменьшило денежную массу и сократило размер кредитов, доступных тем же фермерам и предприятиям. За некоторыми исключениями депрессия распространилась на весь мир. И в подтверждение того, что именно политика золотого стандарта была основной причиной бедствия такого масштаба приведу следующий пример. Экономики стран, принявших добровольное или вынужденное решение отказаться от золотого стандарта сразу после окончания Первой мировой войны, восстановились быстрее.
В 1933 году недавно избранный президент Франклин Рузвельт[15] предпринял ряд новых мер в попытке остановить депрессию. Две из этих мер имели особое значение. Во-первых, Рузвельт отказался от связи между долларом и золотом, прекратив дефляцию в США и поспособствовав началу восстановления экономики, но преждевременное ужесточение денежно-кредитной и налоговой политики привело к новой рецессии в 1937 году[16]. А во-вторых, Рузвельт объявил банковские «каникулы», закрыв все кредитные организации и пообещав вновь открыть только те, которые смогут доказать свою платежеспособность. Вкупе с созданием Федеральной корпорации по страхованию депозитов, защищающую мелких вкладчиков от убытков, вызванных крахом банков, «каникулы» положили конец банковской панике.
В «Монетарной истории» Фридман и Шварц подчеркивают роль обвала денег и цен, это усугубило проложение, сыграв Великой депрессии на руку. Вскоре после начала своей службы в ФРС в качестве члена совета управляющих, я выступил на праздновании 90-го дня рождения Фридмана. Я завершил свою речь извинениями за такой нелицеприятный вклад резерва в разразившуюся катастрофу: «Я бы хотел сказать Милтону и Анне: насчет Великой депрессии Вы правы, это вина ФРС. Нам очень жаль. Но благодаря вам мы не повторим этих ошибок».
Но и винить в Великой депрессии одну только Федеральную резервную систему было бы преувеличением. Да, относительно новый и неоперившийся центральный банк справился плохо. ФРС повысил процентные ставки в 1920-х годах в попытке ослабить спекуляции на фондовом рынке и внес свою лепту в биржевой крах 1929 года и в начало всемирного спада. А приверженность золотому стандарту не дала адекватно отреагировать на разрушительную дефляцию начала 1930-х годов. Кроме того, Федеральный резерв принял недостаточно мер, чтобы усмирить волны банковской паники, хотя именно это и выступало одним из основных мотивов его создания[17]. Неспособность ФРС сохранить денежно-кредитную и финансовую стабильность (или хотя бы одно из двух) усугубила Великую депрессию гораздо сильнее, чем нам бы хотелось признать.
Ошибочная теоретическая основа, в том числе приверженность золотому стандарту даже после того, как он показал свою нежизнеспособность – вот ключевая причина, по которой ФРС и другие политики не смогли предотвратить депрессию.
Но относительная пассивность ФРС в период кризиса 1930-х годов, как подчеркивают Фридман и Шварц, объясняется также децентрализованной структурой и отсутствием эффективного управления. Бенджамин Стронг, влиятельный глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и де-факто глава ФРС, скончался от туберкулеза как раз в 1928 году. Конгресс отреагировал на это ослабление позиций, обновив организацию центрального банка. В рамках Закона о банках от 1935 года полномочия Совета управляющих ФРС в Вашингтоне увеличились, а автономия региональных резервных банков сократилась. Таким образом, была создана структура по принятию решений, которая сохраняется в ФРС по сей день.
Реформы также повысили независимость ФРС от исполнительной власти, устранив из Совета управляющих министра финансов и контролера денежного обращения (регулятора национальных банков). И в качестве важного символического жеста сам Совет управляющих был перенесен из Министерства финансов в новое грандиозное здание главного отделения на авеню Конституции в Вашингтоне, напротив Национальной аллеи. Позднее здание было названо в честь Марринера Экклза, главы Совета в 1934–1948 годов. Экклз сыграл важную роль в составлении Закона о банках 1935 года и в итоге занял место руководителя, пустовавшее с момента смерти Стронга. И в отличие от многих своих предшественников в ФРС Экклз понимал необходимость жестких государственных мер по противодействию Депрессии. Некоторые его идеи предвосхищали теории Кейнса и помогли сформировать основу «Нового курса» Рузвельта[18].
Депрессия продолжалась, пока масштабные военные действия 1941–1945 годов не подтолкнули американскую экономику к полной занятости. Во время Второй мировой войны и сразу после по запросу Минфина ФРС удерживала процентные ставки на низких уровнях, пытаясь урегулировать издержки правительства на финансирование войны. После наступления мира перед лицом новых враждебных действий со стороны Кореи президент Трумэн[19] надавил на ФРС, желая сохранить низкий уровень процентных ставок. Однако руководители ФРС опасались нового витка инфляции из-за чрезмерно низких ставок во время войны, когда нормирование продуктов подстегнуло спрос на потребительские товары. Как мы подробнее рассмотрим в Разделе 1, руководство Федерального резерва взбунтовалось против решения Трумэна. В итоге в марте 1951 года Минфин и ФРС договорились, что резерв постепенно ослабит контроль над процентными ставками, давая возможность использовать денежно-кредитную политику для достижения макроэкономических целей, в том числе стабилизации инфляции. Историческое соглашение, известное как «Соглашение ФРС и Министерства финансов от 1951 года», помогло подготовить почву для современной денежно-кредитной политики.
Структура Федерального резерва
Структура Федерального резерва в наши дни по большому счету отражает решения, принятые Конгрессом при основании ФРС в 1913 году и при проведении реформ 1935 года.
Как и в момент зарождения, ФРС состоит из Совета управляющих в Вашингтоне и 12 резервных банков.
Семь членов совета предлагаются президентом и назначаются сенатом сроком на 14 лет (члена совета нельзя назначить на несколько сроков подряд).
Председатель и вице-председатель совета – а также с момента принятия регулирующих реформ в 2010 году второй вице-председатель, ответственный за надзор за банками, – также предлагаются президентом и назначаются сенатом сроком на четыре года. В отличие от членов Кабинета министров, члены совета не могут быть уволены президентом по причине политических разногласий, лишь за должностные преступления. Кроме того, Конгресс может объявить члену совета импичмент.
Благодаря компромиссам, достигнутым при создании ФРС, 12 резервных банков формально остаются частными организациями, хотя и служат общественным целям. В каждом из них есть совет директоров, составленный из местных банкиров, бизнесменов и общественных деятелей. Совет помогает осуществлять надзор за деятельностью резервного банка и, что особенно важно, директора и выбирает президента, чью кандидатуру должен одобрить совет управляющих в Вашингтоне.
В результате реформ 1935 года и назначения членов совета президентом страны в наши дни бо́льшую часть полномочий по разработке политики Федерального резерва имеет совет управляющих. Он отвечает за политику кредитора последней инстанции, устанавливает учетную ставку – процентную ставку ФРС по займам для банков – и определяет, следует ли задействовать полномочия ФРС по экстренному кредитованию. Также совет управляющих устанавливает правила, например требования к капиталу, для банков и банковских холдингов (компаний, владеющих банками и, возможно, другими финансовыми фирмами), за которыми ФРС осуществляет надзор и регулирование[20]. Сотрудники же региональных резервных подразделений ФРС занимаются практическим надзором за банками, контролируя соблюдение ими правил, установленных советом управляющих.
Принцип, согласно которому совет управляющих устанавливает политику Федерального резерва, имеет одно крайне важное исключение: денежно-кредитная политика, включающая в себя установку краткосрочных процентных ставок и прочие меры, влияющие на финансовые условия в целом и тем самым на здоровье экономики.
Согласно закону, денежную политику разрабатывает более крупный орган под названием Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (сокращенно – Комитет ФРС). Заседания Комитета посещают 19 разработчиков политики: семь членов совета управляющих и 12 президентов резервных банков – а также сотрудники совета управляющих и каждого резервного банка. По традиции каждый год Комитет избирает председателя совета управляющих. Восемь раз в год Комитет ФРС собирается на заседание вокруг массивного стола из красного дерева и черного гранита в зале заседаний здания имени Экклза в Вашингтоне. Председатель также может созывать внеплановые заседания, раньше они проводились по телефону, а теперь по видеосвязи.
Правила голосования Комитета крайне сложны и запутанны. На каждом совещании из 19 присутствующих управляющих и президентов голосует только 12. Семь членов совета и президент Федерального резервного банка Нью-Йорка (по традиции также занимающий пост вице-председателя Комитета) голосуют на каждом заседании. Оставшиеся четыре голоса ежегодно переходят между остальными 11-ю президентами резервных банков от одного к другому. Такое сложное устройство дает право голоса президентам региональных резервных банков, но предоставляет большинство голосов политически назначенным членам совета. На жаргоне ФРС 19 разработчиков политики, посещающих заседания Комитета, называются участниками, а голосующие – членами.
Председатель ФРС в качестве председателя Комитета имеет только один голос при выборе денежно-кредитной политики, но у него есть возможность устанавливать повестку заседаний и рекомендовать действия касательно политики. А также традиция Комитета принимать решения на основе консенсуса придают председателю значительное влияние, делая его первым среди равных. Вице-председатель совета управляющих и президент Федерального резервного банка Нью-Йорка тоже наделены серьезным влиянием и тесно сотрудничают с председателем.
Конечно, в итоге цели, структуру и полномочия ФРС устанавливают администрация и Конгресс законодательным путем. Краеугольный камень надзора Конгресса за денежно-кредитной политикой ФРС, формально изложенный в Законе о реформе Федеральной резервной системы 1977 года, так называемый двойной мандат. Это поручение Конгресса Комитету ФРС преследовать экономические цели максимальной занятости населения и стабильности цен. Хотя задачи денежно-кредитной политики ФРС прописаны в законе, разработчики политики Федерального резерва ответственны за управление процентными ставками и прочими политическими инструментами для выполнения этих задач. ФРС не обладает независимостью в выборе целей – задачи перед ней ставят президент и Конгресс законодательным путем, – однако у нее есть, как минимум в теории, как я это называю, независимость в выборе политики, то есть ФРС может использовать подвластные ей политические инструменты по своему усмотрению для достижения поставленных целей.
Все эти сложные и громоздкие аспекты структуры Федерального резерва защищают ее от краткосрочного политического влияния, позволяя действовать более независимо, чем департаментам кабинета министров, и уделять больше внимания результатам в долгосрочной перспективе.
Балансовый отчет и денежно-кредитная политика Федерального резерва
Как и любой банк, Федеральный резерв ведет балансовую отчетность, где указаны активы и финансовые обязательства[21]. И у ФРС (из основных) их два: валюта – наличные, известные как банкноты Федерального резерва, – и банковские резервы. В свободном обращении находится впечатляющее количество валюты США – около 2,15 триллионов долларов (данные на 2021 год) или более 6000 долларов в расчете на одного американца. Конечно, немногие американцы обладают таким большим количеством наличных; значительная часть этих денег находится за рубежом, часто в качестве гарантии от инфляции или нестабильности местной валюты.
Банковские резервы – это депозиты коммерческих банков, хранящиеся в ФРС. Наличные, хранящиеся в сейфах банков, также считаются резервами. В настоящее время банкам необязательно иметь резервы, чтобы соблюсти нормативно-правовые требования, как это было раньше, но тем не менее они полезны для банков. Например, если банку в Сан-Франциско необходимо перевести средства в банк, находящийся в Нью-Йорке, это легко сделать, поручив ФРС перевести резервы со своего счета на счет нью-йоркского банка. Кроме того, банковские резервы надежны и ликвидны и могут быть быстро обналичены и удовлетворить потребности вкладчиков.
Банк, нуждающийся в дополнительных резервах, может получить их взаймы у другого банка, часто в течение суток. Процентная ставка, по которой банки одалживают друг другу резервы, называется ставкой по федеральным фондам. Несмотря на название, ставка по федеральным фондам определяется рынком. И она также выступает ключевой для разработчиков денежно-кредитной политики. В течение почти всей своей истории Комитет ФРС внедрял денежно-кредитную политику с помощью своей способности влиять на ставку по федеральным фондам, хотя иногда и учетная ставка использовалась для того, чтобы сигнализировать о переменах в денежно-кредитной политике.
Основными активами ФРС можно назвать ценные бумаги Минфина США (долг федерального правительства) с различными сроками погашения, а также ценные бумаги, обеспеченные пулом ипотек (объединяющие большое количество отдельных ипотечных кредитов). Ипотечные ценные бумаги, находящиеся в собственности ФРС, выпускают предприятия, спонсируемые государством. Эти предприятия – организации, в повседневной речи именуемые «Фэнни Мэй», «Фредди Мак» или «Джинни Мэй»[22] созданы федеральным правительством, чтобы способствовать притоку кредитов в рынок недвижимости. Все ценные бумаги, выпущенные такими предприятиями и которые можно покупать и удерживать Федеральному резерву, на данный момент гарантированы правительством. Кроме того, активами считаются любые займы, выданные Федеральным резервом в качестве кредитора последней инстанции.
На балансе ФРС обычно имеется значительный доход. Это процент от ценных бумаг, находящихся у ФРС в собственности. По обязательствам же ФРС платит процент с банковских резервов, но не с валюты. ФРС использует часть дохода для оплаты собственной деятельности, но и передает бо́льшую часть Минфину, тем самым уменьшая дефицит государственного бюджета.
Что особенно важно, Федеральная резервная система использует свой балансовый отчет для внедрения решений касательно денежно-кредитной политики государства. Предположим, для достижения экономических целей Комитета ФРС необходимы более высокие процентные ставки. Приняв такое решение, Комитет повысит целевой уровень (или, как это делается в последнее время, целевой диапазон) ставки по федеральным фондам.
В последние годы ФРС оказывала влияние на ставку по федеральным фондам, изменяя две регулируемые ставки, в том числе процентную ставку, выплачиваемую банкам по резервам. Однако в течение большей части своей современной истории ФРС поднимала ставку по федеральным фондам, создавая недостаток банковских резервов, что, в свою очередь, вынуждало сами банки набавлять ставку по федеральным фондам. А чтобы снизить количество банковских резервов, ФРС через Отдел открытого рынка Федерального резервного банка Нью-Йорка продавала ценные бумаги Минфина частным инвесторам, используя в качестве посредников установленный ряд частных финансовых фирм, которые называют дилерами по первичной продаже. По мере того как инвесторы вносили плату за ценные бумаги, объем резервов в банковской системе соответственно уменьшался.
Считайте, покупатели ценных бумаг выписывают чеки ФРС. А банкам покупателей, чтобы погасить эти чеки, приходится выводить средства из своих резервов. Когда доступно меньшее количество резервов, цена, которую банки платят друг другу за заем резервов, естественным образом растет в соответствии с планом Комитета ФРС.
Подобным образом для понижения ставки по федеральным фондам (цены займа резервов) Отдел открытого рынка покупал ценные бумаги Минфина на открытом рынке, увеличивая объем резервов в банковской системе. Другие формы денежно-кредитной политики, в том числе крупные приобретения ценных бумаг, представляющие собой меры по количественному смягчению, также задействуют изменения в балансовой отчетности Федерального резерва.
Так как финансовые рынки тесно связаны, способность ФРС менять ставку по федеральным фондам позволяет ей влиять на финансовые условия в более широком смысле. Мягкие финансовые условия стимулируют привлечение заемных средств и рост расходов и тем самым экономическую деятельность.
Добиваясь смягчения финансовых условий, Комитет ФРС понижает целевой показатель ставки по федеральным фондам, что, в свою очередь, влияет и на другие финансовые показатели. Например, более низкая ставка по федеральным фондам обычно связана с более низкими ставками по ипотекам и корпоративным облигациям (поддержание расходов на жилье и капиталовложения), более высокими ценами на акции (увеличение расходов путем повышения благосостояния) и более слабым долларом (это стимулирует экспорт благодаря снижению цен на американские товары).
Ужесточая финансовые условия, Комитет поднимает целевой показатель ставки по федеральным фондам, обращая вспять последствия мягкой политики.
Глава 1
Великая инфляция
Слово «великий» обычно несет позитивную коннотацию. Но только не в экономике. Уровень безработицы взлетел, а доходы резко упали именно в период Великой депрессии 1930-х годов, а затем и во время Великой рецессии 2007–2009 годов. Великая американская инфляция, продлившаяся с середины 1960-х до середины 1980-х, нанесла экономике США вреда не меньше, чем два предыдущих эпизода. Эта эпоха, символом которой стали очереди за бензином и одиозные значки администрации президента Форда с аббревиатурой WIN[23], подорвала веру американцев в экономику и правительство своей страны. У Федерального резерва (ФРС) в тот период были и взлеты, и падения. Перед лицом политического давления и меняющихся взглядов об уместности роли денежно-кредитной политики ФРС нерешительно и в недостаточной мере отреагировала на Великую американскую инфляцию. Но под руководством Пола Волкера[24] положение вещей изменилось в лучшую сторону, и в 1980-х Федеральный резерв выиграл эту неравную битву. Победа обошлась дорогой ценой, но помогла восстановить доверие граждан к экономической политике страны и подготовить почву для двух десятилетий финансовой стабильности.
Как детские травмы влияют на формирование личности взрослого, так и Великая инфляция смоделировала теорию и практику денежно-кредитной политики на многие годы вперед – как в США, так и во всем остальном мире. Что особенно важно, центральные банки смогли использовать уроки, извлеченные из этого периода. Эти уроки пригодились в политике, которая сдерживала уровень инфляции и управляла его ожидаемыми показателями, а также сохранила значительное влияние и после падения инфляции. Опыт 1960–1980-х годов показал, как политическое давление может исказить денежно-кредитную политику, а также убедил многих в том, что ее разработчики должны принимать решения независимо, на основе объективного анализа и в долгосрочных интересах экономики. Насколько это возможно, конечно.
Великая инфляция: общие сведения
До 1960-х годов – за исключением военного времени и последующих демобилизаций – инфляция редко представляла проблему в США. На памяти людей худшие случаи этой беды на американской земле пришлись на период Войны за независимость[25] – когда отдельные колонии выпускали собственные валюты – и после краха валюты Конфедерации во время Гражданской войны[26]. Но ни разу за все это время инфляция не затрагивала валюту, выпущенную федеральным правительством. Во время Великой депрессии беда была в дефляции – стремительно падали цены. Краткие всплески инфляции случались в конце Второй мировой и в начале Корейской войн[27]. Но с 1950-х до середины 1960-х годов инфляция оставалась практически на одном уровне. Индекс потребительских цен (ИПЦ) – показатель стоимости стандартной потребительской корзины – в среднем рос всего лишь на 1,3 % в год с 1952 по 1965 год.
Но потом наступил 1966 год, когда цены на товары и услуги увеличились на удивительные 3,5 %, обозначив начало полутора десятков лет высокой и переменчивой инфляции. С конца 1965-го и до конца 1981 года инфляция в среднем превышала показатель 7 % в год и достигла своего пика в 1979–1980-е – почти 13 %. Американцы еще никогда не сталкивались с такими суровыми цифрами на такой долгий срок, и народу они пришлись не по вкусу. К концу 1970-х высокая инфляция регулярно упоминалась в качестве главной экономической проблемы, и люди все чаще выражали недоверие к экономической политике государства.
Почему же инфляция так выросла после 1965 года? На первый взгляд это объяснялось экономическими доктринами того времени – по крайней мере, сначала. В работе, опубликованной в 1958 году Олбаном Уильямом Филлипсом – новозеландцем, который провел бо́льшую часть карьеры в Лондонской школе экономики и политических наук, – излагалась ключевая мысль о причинах таких показателей инфляции.
Используя данные Соединенного Королевства почти за сотню лет, Филлипс изучил связь между средним ростом размера зарплат и спадом активности на рынке труда, измерив уровень безработицы. Филлипс обнаружил связь между низким уровнем безработицы и стремительным ростом оплаты труда. И эта связь стала известна как кривая Филлипса.
Она демонстрировала следующее: если спрос на персонал выше предложения – то есть наниматели испытывают трудности с привлечением и удержанием сотрудников, – то работники требуют повышения зарплат. Более того, как быстро отметили многие экономисты, похожая идея должна применяться и к ценам на товары и услуги. Если спрос на товары так высок, что фирмы не успевают выполнять заказы, то у них есть возможность повысить цены. Сейчас их различают как зарплатная кривая Филлипса, связывающая рост зарплат по отношению к уровню безработицы, и ценовая кривая Филлипса, указывающая на взаимосвязь инфляции потребительских цен с безработицей или другими показателями экономического спада. По сути, логика кривой Филлипса говорит, что инфляция должна ускоряться, когда общий спрос частного и государственного секторов устойчиво опережает способность экономики к производству.
Такая прямолинейная идея, судя по всему, соответствовала ситуации в 1960-х, в эти годы спрос на товары и услуги стремительно рос в масштабах всей экономики. Основным двигателем этого роста выступала фискальная политика – политика налогообложения и расходов федерального правительства. Недовольство масс состоянием экономики помогло Джону Ф. Кеннеди[28] с небольшим отрывом победить в выборах 1960 года. Перед началом избирательной кампании начался новый короткий период рецессии, тогда как три года до этого экономика медленно восстанавливалась, уровень безработицы рос в течение всего года вплоть до 1961-го. Кеннеди же пообещал избирателям помочь «Америке двигаться вперед». Чтобы исполнить обещанное, он наполнил администрацию новым поколением советников, которые в соответствии с идеями Кейнса 1930-х годов продвигали активное управление экономикой, способствуя росту уровня занятости населения. Среди светил, работающих в Белом доме при Кеннеди, были будущие нобелевские лауреаты Джеймс Тобин[29], Кеннет Эрроу[30] и Роберт Солоу[31]. А также Уолтер Хеллер, уважаемый специалист из Миннесотского университета, возглавляющий группу экономистов в качестве председателя Совета экономических консультантов при президенте.