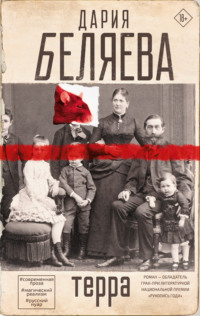Полная версия
Ни кола ни двора
Влюбиться в Толика, подумала я, будет очень сложно, но это необходимо для моего правильного развития.
Я еще немножко почитала в интернете про деперсонализацию и решила, что у меня она. Значит, я тоже сумасшедшая, и мы с Толиком просто отличная пара.
Даже после того, как я отзлилась, отмечталась и выключила свет, заснуть не получалось. Что-то мне мешало, я не сразу поняла, что.
Я слышала шаги, довольно громкие. Кто-то расхаживал по комнате нервно, как зверь в клетке. Сначала мне казалось, что прямо здесь, прямо передо мной, потом я поняла – снизу. Толик, видимо, заселился прямо под моей комнатой.
Я подумала, что скоро он успокоится. Наверняка устал, пока сюда добирался. Под веками перекатывались песчинки, хотелось закапать в глаза водой – все от желания уснуть.
Толик все ходил и ходил, туда и обратно.
Никак не мог остановиться, или не хотел.
Я представляла его, тощего, покрытого синюшными татуировками, надсадно кашляющего, с сигаретой в зубах и с золотыми-золотыми клыками.
– Я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, – прошептала я.
Но на самом деле я на него злилась.
Мне хотелось испытать что-нибудь особенное, влюбиться в кого-нибудь совершенно неподходящего, по крайней мере, вообще влюбиться. В конце концов, подумала я, моя жизнь только начинается, и мне обязательно нужны несчастные романы. Безответная любовь или странная история, в которой я лишусь девственности. Почему говорят «лишиться невинности»? Девушка же никого не убивает, когда впервые ложится с кем-нибудь в постель, ну, кроме, может быть, своих излишне обеспокоенных родителей, а также дворников и сторожей общественного порядка. Не так уж и мало, конечно.
Вы знаете, почему? Может быть, из-за крови. В убийстве и в первом сексе есть кровь. Кровь есть везде. Кровь – это жизнь. Евреи вообще полагали, что в крови есть душа. Поэтому, вроде бы, они выпускают кровь из животных, всю-всю. Потому что они не хотят есть чью-то душу. Это правильно, не каждый родился Шао Каном. Если уж мы съедаем тело коровы, надо дать ее душе шанс отправиться в лучший мир. Пневма. Пневмокониоз. Душа и легочные заболевания тоже как-то связаны. Наверное, потому что у мертвых нет дыхания. Это одна из вещей, которая отличает их от живых.
Мысли распадались на части, расходились по швам, шаги Толика гипнотизировали меня, но не давали уснуть, как удары метронома. Лично меня равномерные промежутки между звуками всегда держат в тонусе.
Заснула я все-таки, полагая это величайшим достижением в своей жалкой жизни.
Глава 2. Так я реальна?
То и дело я просыпалась от надсадного, отчаянного Толикова кашля. Мне снились беспокойные сны, я шла куда-то по автостраде, мимо с ревом проносились машины, заставляя меня съеживаться, сжиматься до боли. Я так старалась стать как можно меньше, чтобы меня не сбила машина, что, в конце концов, заплакала.
А проснулась я оттого, что Толиков кашель стих. Глаза мои были совсем сухие.
Такая тишина, подумала я, как странно.
Я очень давно не просыпалась на рассвете. Небо за окном было серое, с легким, разгорающимся румянцем. На моей подушке лежала рыжая кукла, я долго смотрела на нее, пока не поняла – у нее губы цвета надвигающегося солнца. Чуть-чуть розоватые, с холодным, синим подтоном.
Заснуть не получалось, хотя проспала я, дай Бог, час. Дом был тихим, словно Бог обложил его ватой и поместил в коробку, чтобы перенести куда-нибудь в другое место. Знаете такие коробки для переезда, да? Все знают.
Я встала, потянулась, высоко вздернув руки вверх, кончиками пальцев почти коснувшись крючка, на котором висели качели – потолок у меня был совсем низкий. Мне нравились узкие и тесные пространства. Я бы хотела жить в капсуле, как космонавты из фильмов про далекое будущее. Хотела бы, чтобы в капсулу помещалась только я.
Рассветный час – самый удивительный за весь день. Такое же чудо, как зарождение жизни, как завязь цветка или беременность, или даже деление одноклеточных. В детстве меня очень интересовало, как из ночи появляется день. Когда я узнала, в чем дело, была даже чуточку разочарована.
Зачем-то я вышла из комнаты, проскользила к лестнице, собирая носками лень Люси. Кедровой сладостью пахло еще сильнее прежнего. Внизу было пусто и тихо, мама и папа спали, спала прислуга, спала, наверное, даже охрана. Я осторожно спустилась вниз, подумала, достаточно ли киношно будет попить сейчас горячего молока?
Недостаточно киношные вещи меня вовсе не увлекали.
Уже на подходе к кухне, у самой двери, я услышала его кашель. Выглянула в окно, увидела, что Толик сидит на крыльце.
Не знаю, что заставило меня выйти. Я думаю, под тем светом его профиль опять показался мне красивым. Вот еще странная штука, которая меня в нем поразила – в анфас черты его казались почти мягкими: широкое лицо, хитрый, тоскливый взгляд, нежно очерченные, большие глаза, а в профиль заметны были острые линии его носа и рта, возвышенная резкость лица, казавшегося с другого ракурса таким простым.
Я описываю его очень подробно, но на самом деле, и это стоит признать, у Толика было довольно типичное русское лицо, печальное, какое-то нищенское, красивое и некрасивое одновременно. Но мне-то он казался особенным в том, в чем другим – вовсе нет.
Я посмотрела на Толика, стараясь представить его с собой в одной постели. Я все знала о сексе из интернета, даже участвовала иногда в обсуждениях всяческих сексуальных тем в девчачьих сообществах. Согласно моей легенде, у меня было трое парней, иногда я даже описывала наши постельные приключения. Сулим Евгеньевич консультировал меня по этому вопросу, чтобы я не облажалась, но мыслей о нем у меня никогда не возникало, не знаю, почему. Наверное, я просто еще никогда не решала влюбиться.
Я знаю, что репетиторы часто пристают к своим ученицам, но Сулим Евгеньевич никогда даже не смотрел на меня, как на девушку. Может быть, он боялся моего отца, но, скорее всего, ему интересны были только очень взрослые женщины. Последней его мадам (в прямом смысле, она была француженкой, и муж у нее имелся) было что-то около тридцати пяти.
Я зашла на кухню, посмотрела на себя в отражении хромированного холодильника – неясный силуэт, темный, весь в мазках теней.
У меня была ночная рубашка с черноухим мультяшным далматинцем, рубашка, как длинная футболка, даже лямку не приспустить. Я подтянула трусы, обычные, черные шортики, тоже ничего сексуального.
– Ну же, – сказала я. – Думай, цветочек.
Рита – цветочек, Рита – овощ, Рита – тот еще фрукт.
Я открыла холодильник, взяла из морозилки длинный кусок мяса, вроде бы, ребрышки, и приложила его к груди. Подержала несколько секунд, отложила, отдернула рубашку и взглянула на себя. Соски под тканью топорщились, это уже что-то. Я взбила волосы, повела головой, порепетировала улыбку.
Хотела бы я быть похожей на маму. Раз уж Толик любил маму, наверное, она нравилась ему по внешности. А вот мой папа – вряд ли.
Но что поделать, работаем, с чем есть.
Я стянула один носок, памятуя про Лолиту и ее искрометное появление. Впрочем, для Лолиты я уже была старовата. Вроде как, ей было восемнадцать, когда Гумберт видел ее в последний раз. Или больше?
Когда я вышла к Толику на крыльцо, стало понятно, что трюк с мясом можно было не проворачивать – я так сразу и замерзла.
– Вы не спите? – спросила я. Глупый вопрос, сама пожалела, что с него начала. Но Толик обернулся, просиял, как небо над ним, и выдал:
– Не, ты че. Я ваще не сплю никогда. С тех пор как меня по голове е… по голове мне дали с тех пор как, так я не сплю просто никогда. Дремлю только. Одним полушарием. Как дельфин, знаешь? Даже глаза не закрываю.
– Так не бывает, – сказал я.
– А ты докажи, что так не бывает! – ответил он, прижимая новую сигарету к почти догоревшей.
– Докажу, – сказала я. – В интернет сходите. Вы там вообще были?
– Ну, – сказал он. – Это же почта, все дела. Бывал, конечно. Но мне там не понравилось.
Тогда я спросила:
– Можно я с вами посижу? Вы не против?
– Не, о чем базар? – сказал Толик, улыбнувшись широко и ярко, сверкнув зубами. – Садись.
Я села рядом и поняла, что не знаю, о чем с ним говорить.
– А вы чифир любите?
– Не.
Я задумчиво кивнула.
– Понятно.
Он вдруг опять улыбнулся мне, теплее, радостнее.
– Да ты расслабься. Я тут первое время покантуюсь, потом дальше махну.
– Куда?
– А, – он махнул рукой. – Страна большая.
Руки у Толика были красивые, крепкие запястья, туго обтянутые кожей, так что каждую косточку видно, выступающие вены, ярко-ярко синие, но удивительной красоты, сильные, мужественные, длинные пальцы. На удивление, руки у него были чистые, почти без наколок – только один единственный крест между большим и указательным пальцем. Крест с косой перекладиной, как на могилке.
Я сказала:
– А мой папа?
– Мировой мужик!
– Я имею в виду, вы с ним были в одной…
Я долго подбирала слово, пока Толик сам не сказал:
– Бригаде.
– И чем вы занимались?
Он покачал головой.
– Тем-сем. Пятым-десятым. Было – прошло. Ты лучше гляди.
Он указал куда-то наверх, к солнцу.
– Что?
– Там Бог сидит.
Наверное, я как-то по-особому на него посмотрела, потому что Толик поднял руки.
– Думаешь, совсем поехал? Не вижу я там Бога никакого. Это у меня так бабка говорила. Что облако сияет, значит там Бог сидит на нем. Как бы трон его.
У его сердца я сумела рассмотреть надпись, перехваченную лямкой майки-алкоголички – «не доводи до греха». Я снова глянула на его красивые руки, представила, как он трогает меня под ночной рубашкой. Наверное, это должно было быть приятно. Во всяком случае, мысль была интересная, хотелось ее додумать.
Толик сказал:
– Ты такая грустная, хочу тебе помочь.
Звучало почти как оскорбление. Он был больной и убогий, и мне хотел помочь, надо же. Толик подался вперед, уперся ладонями в ступень, высоко вздернув плечи, и глотнул воздуха, словно только что вырвался из-под толщи воды.
Я заметила, что губы у него очень бледные, почти синюшные.
– Почему вы думаете, что мне нужна помощь? – спросила я.
Он дернул одним плечом.
– Я так чувствую. Ну, это ж и понятно. Ты у них солнышко, дочечка, после Жорика-то. У них за тебя всю жизнь поджилки трястись будут. Но это ж не повод тебя тут хоронить. Ты че, на дискотеку-то ходишь?
– Нет.
– А в библиотеку?
– Нет.
– Все в интернете есть? И библиотеки и дискотеки?
Я улыбнулась. На рассвете он тоже казался печальным и очень больным.
– Ты хорошая девочка, – сказал он. – Но многовато дома сидишь. Надо тебе двигаться. Движение – это жизнь.
– Толик, я вас люблю.
Он глянул на меня.
– Нормас! Я тебя тоже! Я всех люблю, я так решил.
Он потрепал меня по волосам.
– Дите малое.
– Нет, я серьезно.
– И я серьезно. Я тебя тоже люблю, умат вообще, как. Ну че, решили?
– Решили, – сказала я и подалась к нему. Мне показалось, он поцелует меня, но Толик дернул меня за руки и сказал:
– Пошли гулять, любимая. Под юным солнцем, все дела.
– Вы что, смеетесь?
Он склонил голову набок, прищурил один глаз.
– Да ну, – сказал он.
– Тогда подождите, я оденусь.
Но Толик сказал:
– Да не, не надо. Я тебе говорю, трясутся они за тебя слишком. Вот, и носок сними тоже. Это важно.
Не знаю, почему я тогда стянула носок, и чего я ожидала. Он потянул меня дальше, вниз по лестнице, и я впервые за свою жизнь босыми ногами ступила на камень подъездной дорожки.
– Но я замерзну! Я простужусь и заболею!
– Простудишься – вылечишься. Страшного ничего в этом нет! Пойдем со мной, давай. Это прикольно. Ноги человеку даны, чтобы ощущать ими землю. Ты врубишься.
– Во что?
– Ну, тут вкурить просто надо, войти в ритм.
– В какой ритм?
– Ваще в ритм. В базовый.
Ногам было холодно, крошечные камушки впивались в пятки, я чувствовала пыль между пальцев. Толик шел быстро, крест на его груди болтался туда-сюда, высоко подскакивал и ударялся о печальный лик вытатуированной Богородицы.
– Ты ваще по сторонам часто смотришь?
– Ну, я подмечаю, что мне нравится.
Он хрипло захохотал, смех перешел в кашель, Толик сплюнул мокроту.
– Тогда гляди.
Внезапно он остановился, я в него врезалась. Он был такой твердый, весь в неудобных углах костей.
– Да на что?
– На все.
Но я не понимала, что Толик имеет в виду. Вот – дорожка, белая с синим, ровные, сложенные один к одному камушки, вот – высокий рыже-красный кирпичный забор. Позади мой дом, знакомый, привычный, снаружи он казался мне куда больше, чем изнутри. Впереди – черный гребень леса с высокими иглами сосен, долгое поле. Надо всем этим – просто небо, теперь все более розовое.
– Хорошо, – сказала я. – Вот это – дорожка. Это – забор. Там – лес. Вот – небо.
– Ты ж не дефективная, – сказал Толик. – Я в курсах, что ты знаешь. Как думаешь, красиво?
– Нормально, – сказала я. – Обычно.
– Во! А это красиво.
– Вы просто здесь первый день, – сказала я. – Вы тоже привыкнете.
Толик замотал головой, словно отгонял невидимую мошкару.
– Не-не-не. Привыкать – нельзя. Привычка – смерть прекрасного.
Он снова взял меня за руку и повел дальше. Я подумала: может, меня сейчас трахнут. Это интересно.
– Ты на своей волне, – продолжал Толик. – Это хорошо, мозги работают, но ты же тут так ненадолго. Тебе уже восемнадцать лет. В лучшем случае осталось только семьдесят. Это меньше века.
– Но чуть больше, чем просуществовал Советский Союз, – сказала я.
– А вот смеяться не надо.
Неожиданно он понизил голос, кивнул в сторону спящего охранника. Я тоже кивнула, и мы пошли молча.
Не знаю, почему я шла так покорно. Думаю, я пребывала в смятении, как ребенок, которого ведет за руку незнакомец.
Мы осторожно вышли за ворота, дядя, кажется, Леша не проснулся, и я мысленно поставила ему минус в резюме охранника. Бдительность – лучшее оружие, чем, собственно, оружие.
Мои босые ноги коснулись холодной, пыльной земли.
Толик наклонился ко мне прошептал:
– Вдохни.
И я вдохнула. Он задумчиво кивнул и потащил меня дальше. Между пальцами теперь все время застревали камушки. За воротами был дикий мир, почти неизведанный и странный. Тропинка стала мягкой от прошедшего дождя, мои ноги быстро почернели от грязи, я заметила, что Толик тоже босой, и почувствовала себя частью какого-то дикого ритуала.
Грязь под ногами чавкала, воздух казался странно пьянящим. Толик сказал:
– Ну вот, короче, скоро помирать вообще-то. Ты об этом-то не забывай.
– Вообще-то семьдесят лет это много.
Толик вздернул блеклую бровь.
– Ну-ну. Так всю жизнь и будешь под одеялом лежать? Мне на тебя уже стуканули. Я о чем говорю? Ты здесь так ненадолго, чудо, что ты вообще здесь. Пошли на озеро поглядим, у вас тут озеро рядом, отведи меня.
Дом наш стоял на возвышенности, тропинка вела вниз, к лугу и лесу. Здесь мы с папой часто начинали свой забег, когда ему совсем уж не терпелось со спортом.
Толик вдруг остановился, там, где тропинка соскальзывала с холма. Он снова закашлялся, с большим трудом вдохнул.
– Гляди, – сказал он между двумя приступами сухого, как говорят врачи, непродуктивного кашля. – Во че есть.
Он указал на встающее солнце, красно-розовое, как лучшее в мире яблоко. Оно заливало луг с увядающими полевыми цветами огнем и лаской. И я впервые в жизни подумала: так было здесь до того, как построили наш дом. И до моего рождения. Может быть, солнце вставало над лугом именно так уже много сотен лет. Эта мысль вызвала у меня странные чувства. Зависть, наверное. К этому солнцу, к этому лугу, к тому, что вечно.
– Не нравится? – спросил Толик.
– Нравится, – сказала я. – Красиво.
И мы пошли вниз. Я скользила по грязи, иногда Толик меня поддерживал, иногда позволял мне ехать вниз.
Он сказал:
– Слушай, короче, хочешь историю?
– Даже и не знаю.
– Да хочешь, я же вижу.
Я споткнулась, едва не полетела кубарем вниз, палец на ноге обожгло такой болью, что я чуть не заплакала. Толик схватил меня за шиворот, раздался треск ткани, но рубашка осталась целой. Если бы она порвалась, я осталась бы перед Толиком почти голой – только в трусах. Ну или, как минимум, он мог увидеть мою грудь. От одной этой мысли поджались пальцы на ногах, даже бедный, больной большой.
– Не ударилась?
– Нет, – сказала я из упрямства. Меньше всего мне хотелось, чтобы Толик считал меня слюнтяйкой.
– Ну и ладно, – сказал он. – Короче, слушай. Ехали однажды четыре жида, все умные. Они ехали в Рим, понимаешь? Ну, где императоры, гладиаторы, вся байда. Ясен красен, после того, как римляне разрушили их, жидов, храм. Ну и в расстроенных чувствах. Вот, видят, Рим, как там живут, и трое из четырех жидов начинают рыдать, а один – смеяться. Те, которые плачут, они отрыдались и говорят четвертому своему: хули ты ржешь-то? Он такой, значит, по-жидовски, вопросом на вопрос: а вы хули плачете? Ну, ясное дело, они говорят, римляне, скотины, тут живут, процветают, а они наш храм разрушили, а мы там загниваем в своей Жидляндии, и храм горит, а они тут тусуются, так им хорошо, зачем им такое счастье?
Толик замолчал, уставился на небо.
– Ну? – спросила я. – А дальше?
– Баранки гну. Дальше четвертый им говорит: вот я потому и смеюсь, если так Бог с теми, кто ему говно всякое делает, то насколько же воздастся тем, кто хороший такой.
– Странная история.
– Все истории – странные. Мир ваще-то странное место. И это хорошо, я думаю.
Мы спустились вниз, и я увидела луг, залитый солнцем, вблизи, увидела редкие, подгнивающие клеверки, покрытые засохшими фиолетовыми каплями стебельки мышиного горошка, упрямые головки дикого лука. Все это умирало. Трава была вялой, тоскливой, скудной. Недалеко от моей ноги полз мрачный, ленивый жук.
Мне стало грустно. Я не понимала, что красивого Толик во всем этом видит и, главное, зачем. Толик сказал:
– Че рожа кислая такая?
Я сказала:
– Ну, вы говорите, что это красиво. Я так не считаю.
Он искреннее удивился.
– А че так?
– Сейчас осень. Все эти растения умирают.
Толик почесал лоб. Я вроде бы задала ему задачку. Он сказал:
– Так это же хорошо, что сегодня они живы. Вот, солнце, они на ветру колышутся. Это – счастье. Так даже еще красивее.
И мы пошли дальше, и стебли травы кололи мне ноги, как бы в отместку за то, что я знала об их смертности.
Почему я все-таки с ним шла? Не сказать, что я совсем уж глупая, совсем уж нелепая и ничего не понимаю. Не стоит идти со взрослым мужиком, только откинувшимся, к тому же, в лес на рассвете. Нет таких обстоятельств, при которых стоит. Даже если так скучно, что хочется лишиться девственности – не стоит все равно.
Я даже не могу сказать, что доверяла ему, Толик не выглядел ни безопасным, ни добрым.
Более того, если сначала мне казалось, что все мои старания – зря, что моего кокетства он совсем не замечает, то теперь я видела, как Толик на меня смотрит.
Я совсем не так представляла себе взгляд мужчины, который хочет секса. Мне казалось, взгляд этот должен быть томнее и темнее. У Толика глаза были скорее задумчивые и голодные, так смотрят на меню в ресторане после долгого, очень долгого и насыщенного дня. И перед еще более насыщенной ночью.
Иногда он улыбался, и почему-то я понимала, что он думает о сексе.
Отчасти мне такое внимание было приятно. Оно заставляло меня ощущать, что я – реальна, что у меня есть тело, и оно как-то связано с биологическим видом «человек».
С другой стороны, часть меня оставалась холодной, как рыба, непричастной к этой прогулке вовсе.
Я спросила Толика:
– А мой папа убивал людей?
В тот момент мы как раз вошли под сень леса, это было донельзя символично. Толик поглядел на меня странно и сказал:
– Ну пробьешь это, а делать что будешь с тем, что узнаешь?
– Жить, – сказала я. Толику мой ответ понравился, он ответил:
– Всякое бывало. И убивал тоже. Гордиться тут нечем.
Но неожиданно Толик сказал еще кое-что:
– И стыдиться тут нечего. Жил как жил. Что тебе в этом копаться? Бог рассудит.
В том, что он сказал, была циничная, но правда. Я думала, он начнет заливать мне, какими плохими, какими ужасными людьми они были, как он ненавидит себя и папу в то время. А Толик говорил легко и спокойно. Я глядела на солнце, оно улеглось, довольное, на гамаке из черных ветвей, хитро и ладно сплетенном. Я шла по ковру из палых листьев, мягкому и нежному. В лесу было еще холоднее, но земля так приятно и сладостно остужала мой бедный больной палец.
Толик сказал:
– Много думал над тем, что ты сказала. Про мертвые растеньица.
Много – это примерно пять минут.
Я потерла озябшие коленки, Толик проследил за мной взглядом. Мне кажется, он думал, есть ли на мне трусы.
– И? – спросила я. – Если, кстати, вы хотите меня изнасиловать или даже убить, знайте, что мне совершенно все равно.
– Да ну тебя, – сказал Толик. – Я теперь хороший.
– Формулировка подразумевает, что раньше вы так делали?
Он пожал плечами. Не да и не нет. Ничего конкретного. Вдруг Толик просиял:
– В общем, это такое чудо ваще жить.
– Чудо чудное, диво дивное.
– И не надо вот этого вот. Я имею в виду, ничего нет ведь, кроме этого. Кроме всего, что есть. Больше ведь нету ничего.
От абсурдности фразы у меня, как это бывает при решении сложных задач, зачесалось в голове.
– Что?
Толик пожал плечами.
– Ну, я имею в виду, как этого всего мало, того что есть, по сравнению с тем, чего нет и быть не может. Разве ж оно не прекрасно любить все, что реально, а? Че думаешь? В смысле, мы полюбас так мало узнаем о мире, в который пришли, так мало увидим, но разве не круто все равно? Как будто тебя швырнули в гору сладостей. Понятно, что все не схаваешь, но все равно прелесть.
– Я бы не сказала, что это сладости.
– Ну лады. Сладостей и иголок.
Гора сладостей и иголок – вот так он видел мир. Толик сказал:
– Ты вроде губки, впитаешь, что успеешь, прежде, чем тебя сунут в мусорку. Я думаю, Богу нравится, когда мы стараемся откусить самый большой кусок пирога.
Мы вышли к озеру. Оно блестело и сверкало на солнце. У воды было еще холоднее, я то и дело ежилась. Толик, должно быть, тоже озяб, но мне вдруг показалось, что ему это нравится – пробирающий до костей утренний холод, делавшийся только сильнее от бессонной ночи.
Озеро казалось красивым и неожиданно бескрайним. Мне всегда думалось, что оно такое маленькое, серебряная точка и все. Где-то у берега плеснула хвостом и исчезла рыба.
Толик сказал:
– Тебе надо жить. Ты молодая. Как хорошо быть молодым. Ваще улет, ты просто не понимаешь еще ниче.
Я забыла о холоде. Солнце играло с серебром воды, превращая его в золото – странная алхимия, удивительный фокус, который мне показывал Бог.
Толик сказал:
– Во. Красиво?
Я потерла глаза, поморгала.
– Да. Красиво.
У Толика в белесых ресницах путались искры солнечного света. Это тоже было красиво.
Я сказала:
– Но что толку?
Он пожал плечами.
– Толку ни в чем нет, так что забей просто. Надо жить по сердцу, по мозгам если жить, это несчастье.
Он выпускал изо рта сигаретный дым, и казалось, что это пар на холоде, и что осень куда более поздняя, что почти зима.
– Нет, серьезно, что толку от солнца, если оно холодное?
– Философ, бл… блин. Ничего толку, чего завела, толк-толк. Просто хорошо, что ты можешь про это подумать, что это существует, и ты существуешь. Все хорошо, даже больно когда тебе.
Палец заныл, будто отозвался на его слова. Вокруг меня пели птицы, я только это заметила. То здесь, то там, их голоса возникали и таяли.
Толик хрипло, с боем вдыхал, а я топталась на месте, не зная, что делать с нахлынувшими звуками, блестками, с тяжелым, осенним небом надо мной. Действительно, красиво. Но какая разница, что красиво, а что – нет?
Все это скучно и бессмысленно, а однажды я умру.
Я взглянула на Толика и сказала это:
– Но я же умру.
Сказала с отчаянием, с такой тоской, которой сама от себя не ожидала, тем более в восемнадцать всего-то лет.
Толик пожал плечами с каким-то безразличием.
– Так решил Господь.
Адольф – художник, вспомнилось мне, Эрнст – поэт.
– Просто так?
– А мне все равно, – сказал Толик, он снова дернул меня за руку и повел дальше. Толик хватал мое запястье резко, собственнически, каким-то расходящимся с его нынешним образом движением, движением, пережившим его конверсию, или что там с ним произошло.
Я спросила:
– Так вы не ненавидите себя, Толик?