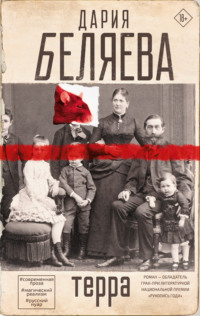Полная версия
Ни кола ни двора
– И на кой черт им, простите, оно надо? – спросила меня Катя.
Она любила меня, как родную, что не удивительно, ведь благодаря моему существованию она сумела отправить своих настоящих детей на учебу в Москву. Когда-то Катя была учительницей в начальных классах, потом ее старший сын разбился на мотоцикле, и она осталась с двумя маленькими дочками и вечно больным мужем одна. Даже вешалась и лежала в психушке, но сумела все-таки справиться с собой и пришла просить у папы работу на заводе. А он ей доверился, чокнутой тетьке, и она стала моей няней.
Надо сказать, Катя до сих пор выглядела как чокнутая. Только не как киношная психопатка, ну, знаете, Энни Уилкс или вроде того. У нее всегда было очень серьезное выражение лица, она всеми силами старалась сохранять спокойствие каждую минуту. Никогда ее не покидала эта тайная напряженность всех сил, это ощущение надвигающейся катастрофы. Оттого, наверное, Катя всегда держалась со мной строго и отстраненно, хотя я и знала, что она очень за меня волнуется.
– А какой он? – спросила я.
– Рожа бандитская, – ответила Катя. – Ты постель заправила?
– Скоро опять ложиться.
И Катя, ворча, потопала наверх. Она все время маялась, искала себе хоть какое-то занятие, чтобы оправдать свое здесь присутствие. Я-то выросла, а ее дочкам нужно было еще немного, чтобы встать на ноги.
Наверное, я любила Катю. А, может, и нет. Не знаю. Всегда сложно сказать, любишь ли человека, когда видишь его каждый день. Теперь я точно ее люблю. Любить в разлуке намного проще кого угодно.
Катя заинтриговала меня еще сильнее, я спустилась в столовую, встала на колени перед дверью и заглянула в замочную скважину. Я увидела только мамины ноги, она скинула туфли и шевелила пальцами.
– Серьезно, Толичка? – спрашивала она.
– А ты как думаешь? – он смеялся. – Я другой человек, не, по серьезу. Вообще другой. Других таких не знаю. Я вчера под водкой был, праздновал, значит, освобождение, смотрю – и на небе звезды.
– Как осколки от бутылки водочной, – засмеялся папа.
– Не. Просто как-то удивился. Я их сколько не видел нормально? Такое это счастье, ей-Богу. Счастье-пресчастье.
Дверь распахнулась, выскочила Люся с пустым подносом, лицо у нее раскраснелось, я еле успела метнуться в сторону.
– Вот мудак, – пробормотала она.
– Кто? – спросила я полушепотом.
– Дед Пихто! – ответила мне Люся. Нелюбовь у нас с ней была абсолютно взаимная. Люся была верткая и злая сорокалетняя баба, которая, как мне казалось, всячески крутила перед папой хвостом. Я невзлюбила ее за это с самого начала. У меня была паранойя, что как-нибудь, когда меня по какой-то странной причине не будет дома, у мамы случится приступ, и Люся ей не поможет.
Она была красивая блондинка, но красивая по-злому, как кошка. Ее только очень сильно портил крупный, красноватый нос, совсем не женственный. Я надеялась, что папа этот нос тоже заметил.
Люся ушла, размахивая подносом у крутого бедра так, словно собиралась кого-то им огреть.
– Да а чего она злится? – услышала я. – Я же не сказал, что она ща шалава! Да и вообще это не плохо. Мария Магдалина же тоже, да? Я это читал. У меня просто глаз-алмаз, я только про это.
– Тебя, Толик, только из клетки выпустили, – сказала мама. – У тебя еще акклиматизация.
– В штанах у него акклиматизация, – сказал папа.
– Это точно. Глобальное потепление.
Он вдруг выскочил за дверь, рухнул на колени.
– Эй, Людмила, вернись, я тебя люблю! Откуда тебе знать, может, я твой Руслан!
Я сказала:
– Здравствуйте.
Он вздрогнул, взглянул на меня, хотя мы были совсем уж рядом, с удивлением.
– Здорова, Ритка!
И обнял меня, к тому же. От него пахло потом и табаком, и тем и другим – одинаково сильно. У него было два золотых зуба, два золотых клыка, остальные – желтовато-серые, блестящие, короткие.
Он сказал:
– Слушай, вот это ты реально выросла!
В одном Катя оказалась права – у Толика, папиного друга, была совершенно бандитская рожа. Описать его – дело сложное. В целом, он походил на зэка, какими я их себе представляла – тощий, болезненный. Прямой, крупный нос алкоголически раскраснелся. У Толика было хитрое крестьянское лицо, щеки запали, на высоких, но мягкого абриса, скулах – тоже какие-то оспины, следы болезни или драки. Была на нем даже печать вырождения, не знаю, ощущение какой-то болезненности среды, из которой он вышел, будто уродливость его жизни отчасти передалась и ему. Отпечаток судьбы на лице, судьбы глубоко провинциальной, угольно-черной. С другой стороны в нем сияло что-то странно располагающее, простое и красивое, даже возвышенное.
У него были большие, синющие глаза, аристократический лоб в чахоточной испарине, прекрасные, тонкие губы, и волосы такие светлые, что он казался сильно выгоревшим под совершенно безжалостным солнцем.
Таким я его встретила, в майке-алкоголичке и старых трениках с тремя полосами. Под бледной кожей – синюшные татуировки, тусклые, такого цвета, как вены. Чернели только надпись «экспроприация экспроприаторов» и пистолет под ней. Эта татуировка была нанесена хорошей краской.
– Ты че, не помнишь меня?
Я смотрела на него упрямо и жадно, пытаясь понять, знаю ли. Что-то в его чертах было теплым и знакомым, как тайные знаки детства, как старые вещи.
Он вдруг улыбнулся мне так тепло, что лицо его стало божественно красивым.
– Все норм. Не помнишь – так не помнишь.
Толик вздернул меня на ноги и еще раз обнял.
– Ну ваще! – постановил он, достал из кармана сигарету и быстро закурил.
– Витек, дочура-то вся в тебя! Алечка, красотка, ни одной в ней косточки твоей, Витек тебе изменяет, дело ясное!
Вдруг он метнулся в обратно в столовую с неожиданной для его убогого, изможденного вида быстротой и легкостью.
Мама засмеялась.
– Витя, с Толиком все по-прежнему.
– Да, понты одни, – сказал папа. Я только слышала их голоса, стояла, как будто меня пристукнули чем-нибудь серьезным по голове.
Наконец, я, вслед за Толиком, зашла в столовую. На столе стоял здоровенный вишневый пирог, коронное блюдо нашей кухарки Тони, в чашках чернел чай, горел камин, язычки пламени, веселясь, терлись друг о друга. Я вдруг испытала к Толику такое сочувствие. Не в смысле жалость, а именно со-чувствие, почувствовала вместе с ним, как теплый дом у осени за пазухой отличается от тюремной слякоти и серости. Он был счастлив, бесхитростно и независтливо.
Я все-таки его помнила, как-то отдаленно, едва-едва.
– Рита, это Толик. Ты его, наверное, не помнишь.
– Он с нами поживет, – сказал папа. – У него сейчас сложности с адаптацией.
– А, – сказала я. – Хотя, по-моему, адаптировался он уже неплохо. Как у себя дома.
– Корни пустил, – сказал Толик, посмеиваясь. Он закурил вторую сигарету прямо от первой, отломил кусок пирога и плюхнул его на тарелку.
– А чего, где учишься? – спросил он. – Ща, пожру и дам подарок тебе.
Я села за стол, мама тут же налила мне чаю и положила кусок пирога.
– Я не учусь.
– Ну и хер с ним, – сказал Толик. – И не надо. Горе от ума, да? У меня мать с отцом всю жизнь без образования, и ничего, справились. Он, правда, в тюрягу сел, а она пыталась меня убить, потому что голодуха, и оба умерли потом. Но, в остальном, и без образования нормально прожили.
Я не поняла, смеется Толик надо мной или нет. Может, он смеялся над самим собой, а, может, был абсолютно серьезен.
Толик отломил пальцами кусок пирога, полезло красное варенье, казалось, он копается в чьих-то внутренностях.
А у папы в руках были вилка и нож. Я подумала: ел ли так папа, по-обезьяньи непринужденно, прямо руками, хоть когда-нибудь.
Толик засунул в рот здоровый кусок пирога, помотал пальцами в разогретом каминным жаром воздухе, облизал их.
– Во, короче, рассказать и нечего особо. Целый день одно и то же, спишь, когда можешь, чтоб не существовать особо.
Как знакомо, подумала я.
– А потом бам! Падаешь, ударяешься головой, и вот ты уже не Савл никакой, а Павел самый настоящий.
– Ты, я смотрю, в религию подался.
Толик почесал синюю богородицу на груди.
– Ну, да. Читал там всякое.
Он постучал пальцем по голове.
– Не для средних умов.
Мама сказала:
– Толик, так что там с тобой случилось?
– А, – сказал Толик. – Алечка, такая со мной случилась херня.
Он всегда так нежно, так отчаянно называл маму Алечкой. Алечка-лялечка. Он знал мою маму, как никто на свете. В этом кукольном имени было все самое важное о ней.
А тогда я поняла – он ее любил, или даже любит. Почему-то это меня порадовало, я к Толику как-то прониклась.
А Толик взмахнул блестящими от вишневого сиропа пальцами, пальцами, будто в крови, и сказал:
– Короче, меня головою так сильно там приложили. Курочки бы ща, да? Голодный, слов нет ваще никаких. Слушай, слушай, меня так сильно по голове отхерачили, что я стал, воистину, другим человеком!
– Но ты не стал, – сказал папа. Он вертел в руках нож, глядя на Толика, смолившего сигарету. Папа давным-давно бросил курить, и сигарета взволновала его впервые на моей памяти. А ведь мама при нем постоянно курила.
– Да я стал, – сказал Толик безо всякой обиды, махнув рукой, мол, не понимаешь ты ничего. – Витек, я ваще теперь не такой, как был раньше. Это все из-за удара по голове. Вот, да, а вы говорите ударился в религию. Ударился, ну да! Ударился!
Он засмеялся, потом закашлялся, сильно, отрывисто и отчаянно. Некоторое время он кашлял совершенно сухо, потом неожиданно сплюнул мокроту, втянул носом воздух. Кашляя, Толик водил рукой по горлу и груди, как будто искал прореху, сквозь которую смог бы дышать.
Я подумала: Толя Тубло.
А потом подумала: тубло это, видимо, то же самое, что и тубик.
И, наконец, подумала: тубик – это туберкулез.
Вспомнилась мне во всех тактильных подробностях недалеко ушедшая в прошлое сцена – Толик Тубло крепко меня обнимает.
Я посмотрела на маму в отчаянии. Мама тут же замахала рукой, словно отгоняла невидимую муху.
– Нет-нет-нет, он всегда такой был. Да, Толик? Толик, у тебя же нет настоящего туберкулеза?
Слово «настоящего» мама выделила невидимым, но очень красным маркером. Толик сказал:
– Неа, нету.
Он повернулся ко мне, снова так красиво, так нежно мне улыбнулся, будто я была хорошеньким животным, щенком или котенком.
– Это у меня с молодости легкие больные. Из-за шахт. Хотя я там мало совсем проработал.
Он закурил новую сигарету, я продолжала смотреть на него.
– Че?
– Из-за шахт, – сказала я.
Толик кивнул, страдальчески прикрыв глаза, и глубоко-глубоко затянулся, выпустил дым через нос.
Он спросил:
– Хочешь историю? Вообще, вот вы, хотите историю?
– О нет, – сказала я. Толик пожал плечами.
– Значит, никакой истории.
И мне сразу стало любопытно, что он хотел рассказать.
– Ладно, Толик, – сказала мама. – Давай историю.
Мама говорила с ним очень милостиво, как королева с рыцарем, мечтающим только о пряди ее волос. Все это с образом моей милой, смешной мамы совсем не вязалось.
– Лады, – сказал Толик. – Ритуля, заткни ушки тогда, раз не хочешь слушать.
Но я уже хотела.
Толик сказал:
– Жила была одна дура. Нет, сначала был Бог. Бог насоздавал всякого, но оно было нормальное. Ну и закатился отдохнуть малька. Вот, и оставил за старшую как раз дуру. Хотя звали ее София, мудрость то есть, а? Типа как философия, да? Ну и вот, дура решила, что она не хуже Бога и захерачила такое существо, типа как мини-Бог. Все такие посмотрели на него и такие: бл… бли-и-ин. Ну, вернулся Бог, всем вкатил по самые помидоры, соответственно, существо это, вновь захераченное, выгнал в пустоту. Оно там с ума сошло, помимо того, что страшное, и создало наш мир. Конец!
Толик почесал плохо выбритую щеку и добавил:
– Начало!
Папа сказал:
– Чего?
Толик пожал плечами.
– Вот такая история. Тоже думаю, что есть в ней какие-то несостыковочки.
– Так ты, Толик, сектант?
– Нет, Алечка, – сказал Толик. – Я истинно верующий во все на свете.
Он вздохнул, с очевидным трудом, повозил корочкой пирога по плевку мокроты, потом отодвинул тарелку.
– Все, наелся. Думал, буду сладкое жрать, как не в себя, а так я отвык. Тоска зеленая!
Мама с папой молчали, папа тоже отодвинул тарелку, мама неестественно долго пила чай.
Я сказала:
– Так что с вами случилось, Анатолий?
– Анатолия – это провинция. А я житель как-то был столичный. Короче, вмазали мне, я и просветился, просветлился. Свет, короче, да? Мне теперь хорошо жить с этим. Я живу, как у Христа за пазухой, в натуре. На дураке с зоны не выехал, но зато у меня с тех пор в груди всегда тепло. Там, где сердце.
Было совершенно очевидно, что Толик сошел с ума. Может быть, удар по голове здесь был совершенно ни при чем, может, чокнулся он от неволи и тоски, от холода, от того, что был совсем один в месте, где никому не нужен.
Но он чокнулся, вот что было однозначно. Толик закурил еще одну сигарету, отмахнулся от ее дыма.
– Ну, что мы все обо мне да обо мне? Э, Витек, ты теперь крутой барыга, а?
Толик коснулся блестящего на груди нательного крестика, сжал его и отпустил, будто птичку. Мне казалось, что от сигаретного дыма стало уже душно и вязко, но мама с папой почему-то не собирались останавливать Толика. Папа поднялся и открыл окно, впустил в комнату кусачий ночной воздух. Запахло хорошо, почему-то ночными цветами, хотя все они отцвели.
– Потихоньку делаем дела, – сказал папа, вернувшись на место.
– Поспешишь – людей насмешишь, – напевно заметил Толик. Папа сказал:
– Не без этого.
Вдруг Толик осклабился и подался к папе почти через весь стол.
– Витек, как же мне вас всех не хватало.
– Всех? – спросила мама.
– Ну, Эдьки, Антохи, Коляна и того, ну, мусора.
– Костя.
– Ну. Хотя, наверное, по нему не особо-то я и скучаю. По тебе, Витек, скучал. А ты, Алечка, про тебя страдал я сердцем всем, в рот оно все…
– Крепись! – сказала мама, подняв большой палец.
– Ну, да, – кивнул Толик, явно смутившись. Он снова повернулся ко мне, покачался на стуле. Под его взглядом мне было странно. Я почему-то подумала, что он представляет меня голой. Или без кожи. Или просто очень откровенной, способной с ним поговорить.
– Алечка, – сказал он. – Дочка такая у тебя чудесная. Когда меня закрыли, ей сколько было?
– Почти семь.
Он задумчиво кивнул, потом вытащил из-под стола сумку, раскрыл ее.
– Во. Подарок. Но ты, наверное, в куклы уже не играешь.
Он выудил из спортивной сумки, старой-старой, намного старше меня, фарфоровую куклу, невероятно и неожиданно красивую. В длинном атласном платье, с рыжими кудрями, стеклянными, зеленющими, как бутылочное стекло, глазами, с тонко и красиво очерченными губами и мягкими ресницами, нежным носиком, она даже напомнила мне живую девочку. Из шляпки торчали пушистые перья, на тоненьких руках были длинные перчатки. Молочная белизна кукольного лица разбавлялась клубничным, температурным румянцем. Не кукла, а произведение искусства – такой точный излом бровей, что можно сказать: дамочка эта с характером.
– Это очень красиво! – сказала я совершенно искренне. – Где вы такую нашли?
– На рынке, – сказал Толик. Я бы не удивилась, если бы он сказал, что заказал такую куклу специально для меня у какого-нибудь именитого мастера, у Вермеера от кукольных дел. Что-то Вермееровское в ее облике было. И что-то мое. Не портретное сходство, нет, кукла была похожа на меня совсем по-другому, словно лица моего Толик не помнил, но пронес сквозь все эти годы что-то более важное.
А я ведь совсем его забыла. Почему-то стало стыдно.
– Толик, это так красиво!
– Вкуса нет, считай калека, – сказал папа. – Красотку какую ты нам притащил.
Толик болезненно дернул плечом, как-то слишком резко, снова широко заулыбался.
– Спасибо, братуха. А уж тебе, Алечка. А ты че еще скажешь, Ритка?
Я провела пальцем по холодным, пыльно-розовым кукольным губам.
– Назову ее Вероникой.
– Это для шмары имя, – сказал Толик. Судя по всему, он обиделся. Я сказала:
– Ладно, как-то по-другому.
– Алечка, что-то я так оголодал.
– Я тебе еще что-нибудь принесу.
Мне показалось, что Толик оголодал в каком-то другом смысле, и что это касалось мамы и даже меня. А еще мне показалось, что папе тоже так показалось. И хотя на лице у папы играла улыбка, радушная, даже ласковая, он все равно выглядел напряженным.
Толик втянул носом воздух, снова царапнул себя по груди.
– Ритуля, – сказал он. – У меня же тоже сестра умерла маленькой. Утонула, когда купала куклу в ванной. Это я виноват. Не досмотрел ее.
Он беззащитно и открыто улыбнулся, так, словно предлагал мне посмеяться над этой историей. Или ударить его.
– Толик, – начала я.
– Толик-алкоголик, – сказал он. – Алечка, а водки ты мне принесешь?
– Я хотела сказать, можно мне вас так называть? Или Анатолий? Или по имени-отчеству?
– Хоть горшком назови, только в печку не ставь.
Толик проводил взглядом маму, скрывшуюся на кухне. Папа сказал:
– И какие у тебя планы на жизнь, Тубик?
– Никаких, – Толик пожал плечами. – Буду жить, как птица небесная, или типа того.
Папа сказал:
– Я бы мог тебе помочь с работой.
А Толик сказал:
– Не хочу работать.
– Не особо-то ты и изменился.
Толик пропустил его слова мимо ушей, а потом вдруг сказал:
– Я люблю тебя.
– Че? – спросил папа совершенно незнакомым мне тоном.
– Люблю тебя, – сказал Толик. – Я об этом много думал на зоне.
Папа почесал в затылке, а Толик стал насвистывать какую-то старую песенку, о существовании которой я догадывалась, но истинного смысла которой не знала, не помнила ни слова, только мотив.
Исчезновение мамы сделало ситуацию еще более комичной, совсем уж киношной. Папа с Толиком казались художественно сведенными в повествовании противоположностями – тощий, жутковатый и в то же время нелепый, раскрашенный синим Толик, у которого за душой, видимо, была только старая сумка, и мой папа – такой богатый и такой красивый, спортивный, здоровый, имеющий дом и семью.
Забавно было смотреть на них, но в то же время и грустно, и печально, и тоскливо – два таких разных финала одной судьбы.
Я поймала папин взгляд, папа мне улыбнулся той обезоруживающей, спокойной улыбкой, которая означала, что он объяснит мне все, только очень потом, а сейчас надо собраться с силами и потерпеть.
Толик смотрел то ли на папу, то ли в темнейшую в моей жизни ночь. Мне показалось, что если я подойду к окну и высуну руку, она вся испачкается в черноте.
– Поживешь у нас? – спросил папа.
– Поживу, – сказал Толик. – Че ж не пожить-то. А вы еще детей не нажили?
Папа покачал головой.
– А, ну да. Алечка все больна?
– У нее хроническое.
– Такая она хорошая, добрая, и косяков за ней не водится никаких, а болеет так сильно, – сказал Толик. – Ну как так-то? А мусор жив вообще?
– Жив, – сказал папа. – Говорит, нагадали ему, что проживет до ста тринадцати лет.
– Мощно. Не люблю я мусоров все-таки.
– Понимаю, – сказал папа. А Толик сказал:
– Хотя надо любить. Мусор – такое же белковое образование, как все другие. Ты знаешь, что люди из белка состоят? Как яичница.
– Вопрос дискуссионный.
– О че умеем теперь! – Толик засмеялся, но как-то беззлобно, обнажил свои золотые клычки.
– Жизнь научит.
Между ними протянулась как бы электрическая линия, казалось, засверкает сейчас. Но я не могла понять, рад папа Толику или наоборот. Толик вот явно был искреннее счастлив.
Мама принесла бутылку водки «Абсолют» и колбасу.
Я сказала:
– О, вечер перестает быть томным.
Мне очень хотелось, чтобы на меня обратили внимание. Я чувствовала себя, как призрак, только наоборот. Призрак – это прошлое в будущем, а я была будущим в прошлом.
Толик сказал:
– Все-все-все, ща подбухнем, вспомним старое! Алечка, вспомним мы старое?
Мама сказала:
– Кто старое помянет, тому глаз вон.
– Какой-то день пословиц и поговорок, – засмеялся папа. Он плеснул себе в рюмку водки и быстро выпил. В тот момент папа показался мне незнакомым человеком. Толик тоже выпил, занюхал водку колбасой, положил ее на язык, торопливо прожевал. Мама подлила мне еще чаю.
Мне кажется, родители правда хотели мне что-то объяснить. Про себя, про свою жизнь. Думаю, они считали, что назрел какой-то разговор, но какой – не понимали, а тут этот Толик.
– Слушай, так это все странно, – сказал папа. Я увидела в небе единственную звезду, может быть, небо было туманным, и только ее свет, ярчайший свет, пробился сквозь пелену.
Толик сказал:
– Странно. Вообще, как жизнь поворачивается, это странно. Неисповедимы пути, все такое.
– Да, – сказала мама. – Толик, дай закурить.
Толик выплюнул в тарелку почти догоревшую сигарету, подкурил новую и протянул маме. Моя брезгливая мама взяла эту сигарету не думая.
– Живете вы, конечно, у черта на куличиках, – сказал Толик, снова закуривая. Огонек зажигалки осветил его лицо и пальцы живым, адским оранжево-красным.
– Да, – сказала мама. – Так удобнее. Работа, опять же.
– Бойня у тебя, да? – спросил Толик. – Я верно понял?
– Мясокомбинат, – сказал папа, и оба они вдруг засмеялись, оглушительно, так, как смеются плохо воспитанные и очень злые мужики.
Я спросила:
– А почему это смешно?
Оба посмотрели на меня странно, мне стало неловко.
– Да, – сказала мама. – И правда, почему?
В этот момент вся столовая показалась мне разделенной на мужскую и женскую половины, каждая – со своими тайнами.
Толик снова шмыгнул носом.
– А ты совсем никуда не выходишь? – спросил он вдруг у меня.
– В смысле? – спросила я. – Это намек? Чтобы я ушла?
Толик засмеялся, показав мне зубы.
– Не. Не-не-не-не. Просто тебе типа восемнадцать. Тусовое время. Бацалки, все дела.
Он странно дернулся, улыбнулся шире.
– Что?
– Танцы, – сказал папа.
– А. Нет, не люблю танцы.
– А что любишь?
Я чуть было не сказала:
– Ничего.
Или:
– Спать.
В итоге сказала:
– Не знаю.
– Это нормально в восемнадцать. Залюбили тебя из-за Жорки.
Он бросил это как бы между делом. Никто на моей памяти так про Жорика не говорил. Родители не то что стерпели, казалось, они с Толиком согласились. Я думала, что Жорик – табу, что слова о нем все равно что удары.
Кроме того, я разозлилась. Как у себя дома, еще и диагноз мне поставил.
– Все, – сказала я. – Пойду спать.
– Во! – сказал Толик. – Воспитали!
Я хотела одним махом опустошить чашку, но совсем позабыла, что мама подлила мне горячего чая. Ужасно-преужасно обожглась, выронила чашку, разбила ее, ойкнула. Толик сказал:
– Бедняжка.
– Цветочек, ты в порядке?
– Да пап, – сказала я, едва-едва удержалась, чтобы не ткнуть под нос Толику средний палец. Толик опять, в который, Господи, раз закурил.
– Вы не умрете? – спросила я.
– Умру, это точно, – ответил он.
– Если встретишь Люсю, – сказала мама. – Пусть осколки подметет.
– Эксплуатация человека человеком. А люди должны быть свободными, я так думаю.
Кому интересно, что ты думаешь? Так подумала я. Ушла злая, нелюбопытная, но уже в комнате о решении своем пожалела. Надо было остаться и послушать. Хотя, может быть, родители при мне и не разговорились бы. Может, они так хотели что-то со своим Толиком обсудить, а я им только мешала.
Куклу я забрала с собой, даже заметила это не сразу, ходила с ней по комнате, будто она стала моей неотъемлемой частью. Взглянув на куклу, я физически ощутила, как отступает обида. Будто тошнота.
Красивая кукла, а Толик – он просто ненормальный. И где он нашел такую прекрасную, такую удивительную штуку, на каком рынке он ее отрыл?
Может, подумала я, при всех своих недостатках, Толик так умеет видеть красоту. Это похвально.
Я уложила куклу в свою постель и накрыла ее одеялом.
Если он будет тут жить, придется с ним ладить.
Курить мне не хотелось, запах табака стоял в носу, хотелось, вот, кашлять.
Я погладила куклу по волосам.
– Ты такая красивая.
Даже нос с крошечной и очень живой горбинкой. Настоящий ребенок.
Я решила почитать, не смогла, потом написала пост в дайри, мол, к нам приехал Т. и возомнил о себе непонятно что, человек из папиного прошлого, динозавр.
Пост я о нем написала большой и искрящийся, очень злой.
Где-то к середине поста я решила в Толика влюбиться. А что? Я еще никогда ни в кого не влюблялась. Пора бы познать и эту сторону жизни. Тем более, других мужчин, с которыми меня не связывали родственные связи и не разделяли культурные разрывы, вокруг не было.