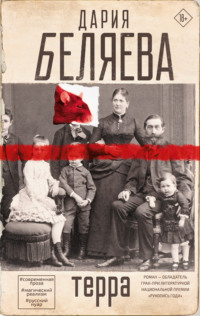Полная версия
Ни кола ни двора
Но я никогда не ездила на поезде. И бегала тоже плохо. За папой я не успевала, лицо у меня краснело, волосы пушились, выбивались из хвоста, вдобавок я начинала чихать. Мы с папой бегали вокруг озера. То есть, сначала я бегала, а потом шла. Папа же, завершая очередной круг, хлопал меня по плечу, дотрагивался до меня, как до финишной ленты.
– Цветочек, – говорил он. – Как же ты будешь быстро-быстро бежать от себя, если ты не спортивная?
Я смеялась, хотя, сказать честно, вопрос этот уже начинал меня волновать. Спортик помогает забить мозги.
Потом мы возвращались домой, я пила с папой его утренний кофе, взрослый, злой и черный. Только к тому времени просыпалась мама, выходила на кухню, зевая, в пижаме с динозавриками, совершенно подростковой. Куда подростковее, чем моя.
А потом родители уходили на работу, и я оставалась одна, совсем одна. Тогда можно было смотреть в окно на то, как дождь поливает лес, и лес растет, на серовато-белое, мучное, мутное, как тесто, небо.
Красотища.
Вы думаете это нормально? Мне кажется – неа. Не думаю, что я нормальная. Но это хорошо, если я чокнутая. Куда хуже, если я просто хочу притвориться поехавшей, чтобы спрятаться от себя самой. Логично же, если я не умею бежать быстро-быстро, я должна уметь залезать в овраги и впадины, и делать вид, что меня не существует.
В общем, все дни стали одинаковыми и прозрачными, как крошечные головастики, детки лягушек. Все дни просвечивались на солнце, и я видела их внутренности. Мне казалось, даже сентябрь не закончится никогда, а уж обо всем остальном и думать нечего.
Родители считали, что я просто устала, перенапряглась с экзаменами, но на самом деле я понятия не имела, зачем я живу. Ох уж эти проблемы богатых девчонок, правда?
Лучше я расскажу про наш дом. Мы жили в красивом месте, у леса и озера, совсем одни. На километр вокруг – совершенно никого. Дом у нас был большой и просторный, светлый, с деревянной отделкой, которая так сладко и кедрово пахнет.
Папа с мамой любили порядок и не любили ничего лишнего, так что никаких, не знаю, золотых ванн и люстр, никаких антикварных шкафов, никаких рокайльных зеркал, ничего такого. Удобные кожаные диваны, тяжелые дубовые столы, скользкий паркет, по которому я каталась в носках, удобные, широкие лестницы с деревянными перилами. Почему я хочу рассказать вам о своем доме? Потому что дом – это мое уютное гнездо. Там я росла, и я думала, что весь мир – мой дом, ну, конечно, с определенными вариациями, и все же. Все вокруг было удобным, коричневым и бежевым, всегда безупречно чистым, пахло деревом и пронизалось светом.
Все вокруг было хорошо.
В детстве имелась у меня симпатичная, сделанная на заказ кровать, белая, а над ней нависал замок с башенками. Про крошечной лесенке можно было подняться к башенкам, башенки были полые внутри, с перекладинами полок, туда я клала свои вещички и штучки.
Потом я из этой кровати выросла, чисто физически, и попросила себе кровать с балдахином. В невыносимые ночи я отвязывала тесемки, и занавес опускался. Еще у меня были качели, такой сидячий гамачок, надежно удерживаемый веревками в креплениях, торчащих из потолка. Я отходила подальше, откидывалась в гамачке и пожимала ноги, и потолок надо мной ходил вперед и назад.
Прямо перед качелями было окно, в детстве я боялась туда вылететь, но если я смотрела прямо перед собой, казалось, что я парю на огромной высоте, по небу, над озером и лесом, прямо к трубам котельной.
Понимаете? Я очень отрывочно описываю, да? Но я хочу, чтобы было понятно, где я жила, и что казалось мне важным. Моя комната была розовой и голубой, как конфета. Я из этого выросла. Честно говоря, мне уже гораздо больше нравился черной, а тут я чувствовала себя в облаке сахарной ваты, дрожащем на небе.
Но в то же время я не хотела ничего менять, потому что таким было мое детство. Обои с розами, увивающими красивые, золотистые, блестящие перекладины, розово-голубой пол. Будто ходишь по начинающемуся закату, еще не налившему краснотой.
Все это было не особенно-то изящно, не со вкусом оформлено, но сделано ровно так, чтобы маленькая девочка пришла в восторг.
Потом я выросла, и я уже не могла расстаться с принцессиными привычками.
Но балдахин у меня был черный, чтобы спать до полудня, если мне когда-нибудь захочется спать до полудня. Если я впаду в депрессию или вроде того. Как Сьюзен Зонтаг или Сильвия Платт. Или как Байрон. Хотя все поэты очень депрессивные, кроме дяди Жени.
Дядя Женя тоже поэт, он пишет гангста-рэп про многоэтажки, шлюх и метамфетамин. Ну, нервный, во всяком случае, он прямо как поэт.
Понимаете, почему я все это рассказываю? Родители, дядя Женя, Сулим Евгеньевич, принцессина комната, книжка про мертвых динозавров. Я живу в аквариуме. Под стеклянным колпаком, как Сильвия Платт.
Но Сильвия Платт задыхалась, а я, наоборот, не хотела выходить, я хотела существовать только под одеялом, в духоте и тепле.
Папа рассказывал одну историю про своего друга, Эдика Шереметьева, он уже умер. Однажды мама попросила Эдика заправить пододеяльник, а он был совсем малыш и заполз в него, тогда мама схватила пододеяльник, сомкнула его края и заорала:
– Эдик, теперь ты часть одеяла!
Вроде как мама у него была поехавшая. По-настоящему, я имею в виду, а не как все вокруг.
Рита, думала я теперь иногда, теперь ты часть одеяла.
Понятно же, кто я такая? Я – часть одеяла. Да уж.
Тот день начался, я помню, чуточку по-другому, не с пробежки, а с похода в церковь – воскресный день – день разнообразия.
Церковь эту построил папа (не лично, конечно же, но вы поняли), на каком-то холме, который, по ходу, что-то означал. Не знаю, что. Я ходила в церковь каждое воскресенье, но, как и мама, стояла там с отсутствующим видом, слушая красивое пение и рассматривая красивые глаза, глядевшие на меня с икон. Мне казалось, они тоже меня рассматривают. Наши окна друг на друга смотрят вечером и днем, или как там говорится? Это же из какого-то фильма. Или из песни?
На литургии папа всегда стоял с очень серьезным видом, чуть нахмурившись, выглядел он так, будто решал сложную задачку по алгебре.
Часто, когда взгляды с икон беспокоили меня слишком сильно, я рассматривала папу. Из-за свечного света, из-за его золота, глаза папины казались светлее, даже желтоватыми. У него было красивое лицо с очень правильными чертами, старательно положенными тенями под глазами и у скул, будто папу задумала и осуществила какая-то особая природа-отличница, которая хочет кого-нибудь впечатлить.
Я похожа на папу, но не до конца, не до этой дрожащей, как марево, идеальности. Меня создавала обычная природа, природа, которой плевать, что вы там себе думаете.
А вот в церкви папа казался не таким и идеальным, хотя лицо его было ясным и красивым, серьезное, чуть мучительное выражение лица его портило. Папа казался растерянным, странным, будто с похмелья очнулся в чужом доме, где никого не знает.
У папы был длинный, но красивый нос, из-за ладановой церковной духоты, он поблескивал. Папа ходил в храм в спортивном костюме. Ровно так же он ходил дома, в этом красном спортивном костюме с тремя белоснежными полосами с обеих сторон на брюках и мастерке. Костюмов таких у него в шкафу было штук пять, совершенно одинаковых. Папины понятия об удобстве. Я думаю, спортивные костюмы, особенно красные, вполне вписывались в его понятия о прекрасном, в отличие от черных пиджаков и отглаженных брюк. Я как-то спросила его, не грех ли надевать «Адидас» в церковь. Папа сказал, что Бог все равно видит нас насквозь. Видит, какие мы на самом деле.
Не знаю, верю ли я в Бога. Церковь, во всяком случае, заставляет меня трепетать. Папа верит, это точно. Он решает какую-то сложную задачу, выводит формулу, связанную с Богом. Для него это очень важно, поэтому я с ним никогда не спорю, я надеваю юбку в пол и повязываю платок, и буду стоять в духоте и золоте столько, сколько надо папе.
Мама, как я уже говорила, обычно думает о своем, вид у нее при этом совершенно отсутствующий. У нас у всех золотые крестики на тонких цепочках, папа говорит, они нас защищают.
А у меня не только крестик даже, у меня на тонкой цепочке якорек, сердечко и крестик – Вера, Надежда и Любовь.
Меня могли назвать Надеждой, так хотел папа, но, когда он увидел меня, то решил, что я Рита. Не знаю, почему. Как можно взглянуть на человека и понять, что он – Рита? Я столького не знаю, на самом деле.
Так вот, в тот день папа был особенно, мучительно задумчивый, я даже взяла его за руку, он тепло сжал мои пальцы и тут же отпустил.
Когда мы стояли на коленях в ожидании причастия, мама шепнула мне:
– Сегодня будет дядя Толя.
Но мне послышалось что-то вроде:
– Сегодня приблуда для моли.
– Что?
Но к маме подошел священник, она улыбнулась ему, вежливо, как продавцу в магазине, и поцеловала протянутую к ней руку.
Я так и не выяснила, что за приблуда для моли.
После причастия папа долго стоял у иконы Божьей Матери, а потом поцеловал ее в высокий, красивый, аристократический лоб, будто родную.
Эту икону тоже заказал папа. Может быть, когда-нибудь она будет называться Богоматерью Маркова, но пока мы с папой еще не история.
Знаете, что золочение на иконах называется ассист? Это золотые штрихи, не нимбы, например, а незаметные вкрапления: отблески на лицах, на волосах, на крыльях ангелов и на одеждах. Эти штрихи означают присутствие Бога, эти штрихи и есть Бог в пространстве иконы, его свет, его тепло. Вы думаете это красиво? Я думаю, что очень. На самом деле, мне кажется, и история-то об этом.
Ладно, давайте дальше. На пробежку я с папой не пошла, пришла в свою комнату, скинула платок, разделась, забралась под одеяло и почти сразу заснула. Весь тот день я провалялась в кровати, спала и смотрела на дождь, вспоминала нашу церковь на холме и папино лицо, серьезное, даже грустное. Я стала думать, что это может значить, решила, что вечером обязательно его спрошу.
Вдруг он узнал, что у него рак?
Или он обанкротился?
Лучше бы обанкротился, чем заболел.
Первой с работы пришла мама. Она уходила поздно, а возвращалась рано. Номинально она работала в мертвеньком естественно-научном музее, но наведывалась туда, по большей части, ради развлечения.
Мама стояла у двери, щебетала с дядей Колей, охранником. У него был переломанный нос, деменция боксера и поистине собачья, безграничная любовь к маме.
– Не знаю, мне не кажется, что он изменился, понимаешь? Я почти одиннадцать лет его не видела, много, да? И вот, так внезапно. Не могу себе представить, чтобы он изменился. Хочу, чтобы был прежним.
– Ну, – сказал дядя Коля, явно не больше меня разобравшийся в ситуации. – Дело ясное, что дело темное.
Уж точно, дядь Коль.
Увидев дщерь свою, помятую днем, проведенным в полусне, мама обняла меня и поцеловала. Она пахла «Герленом», такой водяной пылью, цветочной тенью.
– Малышка! А ты как думаешь?
– О чем? – спросила я.
– О ком. О дяде Толе!
У мамы были большие, всегда чуть изумленные, темные глаза. Когда она улыбалась, в них игрались искорки, казалось, секунда, и она сморгнет их, они стекут с ресниц.
– О каком дяде Толе? – спросила я без особенного интереса.
Мама хотела ответить, но в этот момент мне позвонил папа и сказал, что умственно отсталые дельфины называются гринда. Ну, знаете, лобастые такие. Пока мы с ним смеялись, я совершенно забыла о существовании дяди Толи.
Минут через пятнадцать эта шутка перестала забавлять папу, и он сказал:
– Я сейчас еду с дядей Толей в тачке. Что-нибудь ему передать?
– Э-э-э, – сказала я. – Ну, да.
Тишина, как запавшая клавиша, и я решила добавить:
– Передай ему привет.
Я почувствовала себя героиней какого-нибудь абсурдного фильмеца, артхаусного в должной мере, непонятного даже изнутри.
Я спросила:
– А кто такой дядя Толя? То есть, все равно, конечно, привет ему, но…
Я услышала смех, хриплый, кашляющий, а потом и голос, хриплый, естественно, тоже, но еще – развеселый до мурашек.
– Ну, Толя Тубло. Не помнишь меня, Ритка? Не, не помнишь, наверное. Голос точно не узнаешь. Ну, ну ниче. Слышь, Витек, не помнит меня она?
Папа тоже засмеялся, что-то сказал, но я не расслышала, потому что загадочный дядя Толя, которого я, ко всему прочему, должна была помнить, видимо, очень сильно прижимал телефон к уху. Я слышала его дыхание, чуть посвистывающее и нездоровое.
– Не помню, – сказала я, совсем растерявшись. – Извините.
– Да че ты сразу, – ответил дядя Толя. – Нормально все, я ж понимаю, всех Толиков не упомнишь.
Я не справилась, например, даже с одним.
– А вы кто? – спросила я все-таки.
– Ну, Толя Тубло, – ответил он мне. – Э-э-э. Сложно объяснить. Так-то я личность, личность причем неоднозначная. А ты кто?
– А я даже и не знаю, – сказала я неожиданно честно.
– А годков-то тебе уже сколько стукнуло? – спросил он.
– Восемнадцать.
– Хера себе! Созрела девочка!
Папа что-то сказал, и Толик надолго замолчал.
– Ладно, – сказал он, наконец. – Вот мы приедем скоро. Я только с поезда ваще. Опух уже.
Тут я услышала папин голос:
– Заболел. Опух.
Ну да, любимый папин анекдот. Папа начал смеяться, а Толик, судя по всему, потянулся, мне кажется, я даже услышала, как что-то хрустнуло, хотя, может, я просто впечатлительная.
– Охерительно это, конечно, – сказал он. – Откинуться наконец.
И тут я спросила:
– Чего?
И он спросил:
– А чего?
Папа продолжал смеяться над старым анекдотом, я вам сейчас его расскажу.
Гуляет мужик с коляской, подходит к нему тетька и говорит:
– Ваш ребенок выглядит больным и каким-то опухшим, что с ним случилось?
– Заболел. Опух.
Да, по-моему тоже тупой анекдот.
Я молчала, но трубку почему-то не клала. Мне кажется, абсурдность ситуации хорошо меня проняла. Я подумала, что если удачно скошу взгляд – увижу объектив камеры и задумчиво ковыряющего в носу оператора.
Толик Тубло сказал моему папе:
– Точно я не стесню вас никак?
– Не, – ответил папа, теперь я слышала его лучше, должно быть, Толик отвел трубку от уха. – Нормально. Стеснить нас сложно.
– Во себе дачку небось отгрохал! – Толик присвистнул. Он, судя по всему, еще держал телефон у уха, я слышала его очень хорошо.
Папа что-то еще ответил, и Толик снова засмеялся, шмыгнул носом, потом, внезапно, опять обратился ко мне, я вздрогнула.
– Короче, я тебе подарок даже привезу. Но я ваще-то я думал, что ты младше. А ты здоровая уже такая, хрена себе! Во время летит, ниче так, да?
– Ага, – сказала я.
А он сказал:
– Ну лады. Не скучай.
Я подумала, что сейчас Толик Тубло, кем бы он ни был, положит трубку, но он вдруг добавил:
– Не-не, подожди, короче. Хочешь историю расскажу?
– А, ну, да.
Я почти услышала, не знаю, как вы это поймете, но именно почти услышала, как он улыбается.
– Короче, был такой мужик, да? Бородатый, небось.
– Почему? – спросила я.
– Потому что он жил, когда Иисус только умер. Был типа, знаешь, учителем. И вот там же тогда много было учителей, которые учили быть христианами, да? Вот, и все другие учителя такие придумывали своим ученикам задания, учили их толковать чего-то там, неважно. И ученики того парня все время спрашивали, почему ты вообще нам заданий не даешь? А он знаешь че?
– Что?
– Он говорил: любите друг друга, и этого довольно с вас. Приколись?
Я сказала:
– Ага. У меня есть такой репетитор по английскому.
Папа сказал громко, пытаясь перекричать Толика:
– Это, вроде бы, Иоанн сказал!
– Ого! То есть, это ж Иоанн Богослов! Режиссер самого крутого фильма-катастрофы за всю историю человечества! Да, точно это он.
– Извини, Рита, – сказал папа. – Толик хочет общаться.
– Толик хочет общаться, это точно!
Я сказала:
– Да ничего.
Он сказал:
– Ладно, вот и вся история. Ну, пока. Подарок мой совсем не понравится тебе.
– Да не переживайте так, – ответила я.
– Я ужасно переживаю!
И он положил трубку, все равно в самый неожиданный момент. Я сказала маме.
– Мама, а кто такой Толя Тубло?
– Толик Тубик, – сказала мама.
Это все, конечно, прояснило.
– Ага, – сказала я. – Он.
Мама задумалась, будто я спросила у нее о сексе или, например, о наркотиках. Она сказала:
– Старый друг семьи.
– Он, вроде как, из тюрьмы вернулся.
– Да, – сказала мама. – Вроде как. Слушай, малыш, а где сигареты?
– Я не брала, – ответила я. И солгала. Мамины сигареты были у меня в комнате, в ящике стола, закрывающемся на ключ. Мама безуспешно искала их, затем вытряхнула содержимое сумочки прямо на пол, встала на колени и принялась перебирать вещички. Дядя Коля спросил, помочь ли ей, но мама только покачала головой.
– Нет сигарет! – сказала она, всплеснув руками, посмотрела на меня снизу вверх, как маленькая девочка, и добавила:
– Толик десять с половиной лет провел в тюрьме. Вышел, вот. Вроде бы полный срок отсидел. Но подробностей я сама пока не знаю. Коля, у тебя нет сигарет? Я сейчас с ума сойду.
– Не курю, Алевтина Михайловна.
– Правильно, – сказала мама. – Для здоровья это очень вредно. Так вот, Рита, после Жорика, папа ненадолго отправил меня из Москвы, как раз вместе с дядей Толей. И вообще я его хорошо знала. Мы познакомились, когда, – мама потрясла перед своим носом брелком с динозавром. – Когда мы познакомились с твоим папой, в тот же день. Можно сказать, что мы друзья!
Тут она подняла вверх палец.
– Вспомнила, где еще пачка.
Мама ушла в гостиную, а я осталась стоять в коридоре, глядя на высокий потолок.
Дядя Коля сказал:
– Да уж.
Я сказала:
– Это точно.
И поскользила по паркету к лестнице, оставляя охранника дядю Колю наедине с абсурдностью этой невероятной жизни.
В своей комнате я открыла ящик стола, достала мамины ментоловые «Лаки Страйк» и свою зажигалку с анимешной девочкой, длинноволосой, изумленной блондинкой, открыла окно и высунулась так, что капли дождя то и дело падали мне на ресницы.
Я закурила. Тайком я воровала сигареты лет, наверное, с четырнадцати. Мне нравилось ощущать себя взрослой, смотреть на тусклое отражение в оконном стекле, затягиваться и выпускать дым, наблюдая за собой. Курение было для меня видом самолюбования.
Но тогда, может, впервые я закурила потому, что нервничала, даже не взглянула на себя, глубоко и быстро затянулась, выпустила дым в туманный, дрожащий воздух.
Наверное, я все-таки немножко драматизировала. Я имею в виду, мне свойственно театрально заламывать руки и накручивать себя, как нитку на спицу до тех пор, пока сердце не начнет рваться. Это я люблю, честное слово. Я – истеричная девочка.
На самом деле, если рассуждать рационально, разве я не догадывалась ни о чем и никогда?
Когда я была маленькой, мы с мамой часто куда-то уезжали, иногда поздно ночью, как будто безо всякой на то причины. Мне такое очень нравилось, я переживала внезапные отъезды, как приключения. Выходишь ночью под звезды, и мама держит твою руку крепко в своей горячей, влажной руке, шум мотора, долгая дорога за город, утешительные шоколадки, мамины широко раскрытые глаза и странная тяжесть в ее сумке.
В одну из таких ночей я упросила маму заехать в ночное кафе, там мы заказали чебуреков с сыром, жирных, пахнущих невероятно, и совершенно золотых под искусственным светом посреди темноты.
И тогда мама расплакалась. Охранники, уже и имен их не помню, гладили ее по дрожащим плечам, а я жевала чебурек и спрашивала:
– Мама, что такое? Что такое, мама? Тебе не вкусно?
Официантка, химически-рыжая, с накрашенными малиновым сухими губами, смотрела на нас странно, как могла бы смотреть на черную кошку, которая перебежала дорогу прямо перед ней.
Мама сказала:
– Нет, Рита, все нормально. Ешь побыстрее, ладно? И мы поедем.
– Куда мы поедем? – спросила я. Опять новое место, новое приключение. Но мама растерянно ответила:
– Не знаю.
Мы кружили вокруг Москвы всю ночь, а наутро выяснилось, что нужно возвращаться обратно, и мы попали в ужасную пробку, меня так тошнило. Но в остальном – это была прекрасная ночь, удивительная и сказочная. Никто не заставляет лежать в кровати смирно, происходит что-то удивительное и непонятное, и звезды над головой ярче обычного горят, как диоды от новогодней гирлянды.
Тогда я не особенно понимала, почему мы вынуждены сбегать из собственного дома, полусновидное ощущение опасности только подстегивало чувства, проясняло зрение, мне нравилось и оно.
Потом, когда мы уехали из Москвы, все это прекратилось: долгие ночные поездки, мамин взволнованный голос, даже сумка ее больше никогда не была такой тяжелой.
И постепенно я обо всем забыла.
А тогда, вот, стояла с сигаретой у окна, глядела на подсыхающий осенний сад и думала о папином друге, который провел в тюрьме десять с половиной лет. И все у меня складывалось. Представляете?
Мой папа, подумала я, плохой человек. Я покатала эту мысль, чуть ли не разжевала, и снова глубоко затянулась.
Плохой человек, вот что главное. Подумать: мой папа – бандит, потому что друзья его – бандиты, потому что у мамы в сумке наверняка был пистолет, потому что нам приходилось покидать дом всегда как-то вдруг, прямо посреди ночи, потому что он уехал из Москвы внезапно и жил уединенно. Так вот, подумать так, значило все-таки чуточку романтизировать ситуацию. Это же кино.
В то же время этот факт хоть что-то говорил обо мне. О том, кто я. Во всяком случае, дочь бандита.
С другой стороны, это все косвенные доказательства, девчачьи интуиции. Может быть, Толик был его одноклассником, свернувшим на кривую дорожку, только-то и всего. Но мне нравилось, что все рухнуло. Нравилось это ощущение – папина тайна, огромная, как небо. Я затушила сигарету, спрятала бычок в шкатулку с украшениями, надеясь выбросить его потом, когда родителей не будет дома.
В шкатулке переливались мои колечки с опалами, бычок среди них казался еще уродливее.
Я взяла книжку, «Ветер в ивах» на английском, и стала разгонять ей сигаретный дым. Но, в конечном счете, быстро устала, упала на кровать и уставилась в потолок. В детстве, когда я жила в Москве, на потолке у меня были фосфоресцирующие обои с созвездиями. Тогда я еще хотела стать космонавтом, и все у меня в комнате было космическим: лампа в форме ракеты, люстра-луна на потолке.
Москва Космическая. Как Комсомольская, только в центре Вселенной, свободно плывет между небесными телами.
Я подумала: какой он, этот Толик? Толик Тубик или Толя Тубло, вот какой он?
Папа привезет кусок своего прошлого, насекомое в янтаре.
Мне кажется, я тогда всем этим вдохновилась, потому что я не хотела будущего, вообще никакого. Толик казался мне машиной времени, загадкой из папиной молодости, чем-то упущенным мною в детстве.
Кроме того, справедливости ради, я не так много новых людей в своей жизни встречала. Любой гость в нашем доме был для меня событием. Преимущественно, кстати, приятным.
В детстве я представляла, что гости шли к нам через опустошенные земли после ядерной войны и приносили вести из далеких оазисов цивилизации. Утомленные долгой дорогой, заметенные ядерной пылью, они приходили в наш дом, и я старалась оказывать им максимально теплый прием, потому что знала, какой кошмар они пережили по пути сюда.
А тогда, в тот день, я играла сама с собой в тайны своего папы, в загадочное и жуткое прошлое и, незаметно для себя, снова уснула. Когда я проснулась, за окном уже было темно, только светились красные огоньки на карамельных, снежно-алых трубах. Как глаза у монстра.
Я вскочила с кровати, принялась приводить себя в порядок, умылась, почистила зубы. Я подумала: папа уже должен был привезти Толика.
Дома я обычно ходила в спортивных штанах и майке, но тут зачем-то влезла в платье (какое-то ужасно дорогое и нелепое, помню только, что оно было зеленое), покрутилась в нем перед зеркалом, намазала губы блестками, расчесала волосы.
Мне не хотелось быть на себя похожей.
Но не хотелось и быть похожей на какую-нибудь другую девушку. Вы же понимаете, о чем я говорю? Хотелось стать совсем прозрачной, бесплотной тенью, но кроме того – понравиться.
Только спускаясь по лестнице, я обнаружила, что на мне дурацкие черные носки, что ноги у меня не так уж гладко выбриты, что юбка липнет к коленкам, как ласковый щенок.
Но отступать было поздно.
На лестнице я столкнулась с Катей. Она сказала:
– А вы, барышня, куда это?
А я сказала:
– Дядя Толя приехал.
Катя нахмурилась. У нее было простое, как это говорят, рязанское лицо, в какой-то степени очень красивое – высокий пучок библиотекарши к этому открытому, круглому и светлому лицу совсем не подходил. И одевалась она слишком чопорно и серо для золотистости ее кожи и внушительных объемов.