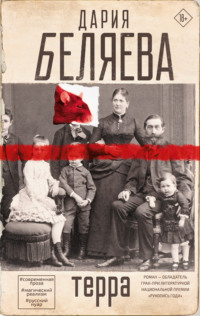Полная версия
Ни кола ни двора

Дария Беляева
Ни кола ни двора
Мы сентиментальны, когда уделяем какому-то существу больше нежности, чем ему уделил Господь Бог.
(Джером Сэлинджер)Глава 1. Кто же я такая?
В детстве, когда меня спрашивали, кем же я хочу стать, я всегда отвечала, что буду космонавтом, чтобы полететь на Луну, к Жорику. Почему-то я считала, что он живет на Луне. Логично, правда? Тот, кто не живет на Земле, должен жить на Луне. Дети, по большей части, существа очень конкретные.
Я мечтала полететь на Луну и найти Жорика, потому что уже тогда я прекрасно понимала, что если бы мой брат был жив, я бы не родилась. Я представляла себе, через что ему пришлось пройти ради того, чтобы я занималась потом всякой чепухой. Я хотела найти Жорика и сказать ему спасибо. Не за то, что он умер и уступил место мне, не таким уж я была циничным ребенком, честно. Я хотела сказать ему спасибо за то, что я здесь. За то, что я дышу, смеюсь, чихаю. За разные вещи, которых он так и не попробовал, а я попробовала.
В этом смысле я была очень вежливой юной леди. Я хотела поблагодарить его и отправиться обратно на Землю. Мне представлялось, что там, на Луне, очень холодно и сердце превращается в льдышку за шесть секунд. За шесть секунд мне предстояло объяснить Жорику, как это – жить, и не сделать ему больно. Сложная задача.
Ради этого стоило вертеться в центрифуге, или где там вертятся космонавты.
Затем я становилась все старше и старше, папа уверовал в Господа Бога, мама – в кости динозавров и нефть, которой они становятся. Оказалось, что, если Жорик и на небе, то на каком-то другом. Не на том, по которому летают самолеты и, тем более, не на Луне.
А, может, так мама говорила, хотя и посещала с папой церковь, и весьма исправно, Жорика вообще больше нет.
Короче говоря, больше меня в космонавтике, звездах и космических кораблях ничего не интересовало. Планеты, как оказалось, это просто вращающиеся вокруг звезд шары. Ничего интересного, если на них не живут мертвые.
Дальше у меня был период, когда я хотела работать в похоронном агентстве или в морге, может, даже стать патологоанатомом. Я подумала, что, если Жорик все же где-то есть, удобнее всего будет связаться с ним через кого-нибудь, кто отправляется, ну, туда.
И скажет ему спасибо.
Вот что всегда волновало меня больше всего: как сказать Жорику спасибо за мою жизнь?
Была и еще одна вещь, еще одно мое вечное волнение, совершенно ужасное: а вдруг я живу хуже, чем жил бы Жорик. Вдруг Жорик учился бы лучше, а я глупая. Вдруг у Жорика было бы много друзей, а у меня только дядя Женя и Сулим Евгеньевич, да и те скорее общаются со мной по необходимости. Вдруг он был лучше пел, а у меня совсем нет слуха. Или он готовил бы вкусные оладьи, а я обожгла себе руку так, что у меня теперь на ладони огромный шрам. Некрасивый.
Жорик мог быть лучше меня во всем. Он не вырос, поэтому ему было весьма затруднительно разочаровать родителей.
А я? Я умела только задавать вопросы. Не знаю, всю жизнь я казалась себе какой-то поддельной. Нарисованным ребенком вместо настоящего. Субститутом и паллиативом, который, во всяком случае, знает разные умные словечки.
Я люблю прятаться за умными словами, чтобы никто не понял, какая я глупая и ленивая. А Жорику нечего было бы скрывать.
Вот, даже сейчас, вместо того, чтобы рассказать мою, мою собственную, историю, я снова рассказываю о Жорике. Старые паттерны и узелки.
Жорик умер через два месяца после своего первого дня рождения. Меня тогда еще и в проекте не было. Естественно. Я видела его фотографии – младенец, как младенец. Очень красивый, книжно-киношный, о таких мечтают женщины, поглаживающие надутые животы.
Мама красивая, папа красивый, у них получился очень красивый сын.
Он умер из-за отека мозга, у него случился припадок, первый и единственный. Это потому, что у мамы эпилепсия. Она и родила-то его на восьмом месяце, из-за приступа. Жорик был слабенький, но потом пошел на поправку. Все считали что это чудо, пока Жорик не умер.
Мама как-то сказала:
– Он был такой красивый, разве что мертвый.
У Жорика на могиле гравировка с плюшевым мишкой, там еще надпись: прости, наш хороший. От мамы и папы. Да уж, с Жориком сложно сравниться, но я его люблю.
Понятно же, в какой атмосфере я росла? Всю жизнь мои родители ждали, что я внезапно умру. Жутковато, да? В школу я, понятное дело, не ходила. Мой папа весьма богатый, у него есть мясоперерабатывающий завод, я даже как-то была там. Ужасно пахнет смертью. Представляете, они даже кости превращают в муку? Все идет в дело. От коровы не остается ничего-ничего, ни волосинки, ни пятнышка. Словно ее и не было на свете.
Костную муку папа продает потом на удобрения. У него лучшая костная мука в области, все хвалят.
Моя мама тоже занимается костями – костями динозавров, она их изучает. Короче, вокруг меня одна только смерть. Об этом я пишу в дайри. Подписчиков у меня много, люди любят такое почитать. У меня же такая драма, ну такая драма. Но я подписана на одну девчонку, которая работает в детском хосписе. И еще на одну (была подписана, вернее) – она умирает от рака. Мне с ними никогда не сравниться.
Теперь вы, наверное, думаете, что мои родители – страшно мрачные люди, все эти кости, мертвые Жорики, но на самом деле – нет. Они самые добрые, солнечные и веселые существа, которых я знаю. Намного веселее меня, всегда в хорошем настроении.
Мама родила меня в девяносто втором году, ей тогда было девятнадцать, а папе – двадцать семь. Ну, так получилось.
В общем, мама еще не старая, как у многих моих знакомых с дайри, она все, более или менее, понимает, песок с нее не сыпется, и она в порядке.
Я похожа на папу, вся в него – рыжая, как он, смеюсь, как он, я даже сплю, как он, мама говорила. У нас похожие глаза, похожие привычки, даже родинки на руках складываются в похожие созвездия. Представляете?
Я люблю своего папу, в этом я не одинока. Его обожают все на свете. Рядом с ним все становятся лучше, он сияет, как золото, и такой теплый, что с ним можно гулять часами даже самой лютой зимой.
Я не знаю ни одного человека, который не любил бы моего папу. Он старается сделать мир лучше для всех, кроме коров. Не знаю, наверное, коровы папу не любят, но они бессловесные бедные твари, и никто не думает о том, как мой папа делает им больно.
Я даже хотела стать вегетарианкой, вроде как получилось бы иронично, но мясо слишком вкусное, а живем мы один раз.
Мой папа всех опекает, к нему ходят с просьбами, с прошениями даже. Он оплатил лечение в Германии сыну уборщицы, у которого нашли лейкоз или вроде того. Потом этот парень даже приходил к нам на ужин. Моего возраста где-то, я думала, может, у нас с ним что-то получится, но Антон рифмовался очень предсказуемо, и оказался тем еще козлом. Ныне он жив и здоров, иногда написывает мне на мыло, как у него там дела. Еще он лопоухий, этот Антон.
В общем, мой папа – сияет и сверкает. В этом смысле он неповторим, никто так не улыбается, как он, и щедрым таким никто не бывает.
Моя мама тоже добрая, просто чаще всего она думает о динозаврах. Больше всего ей нравятся тираннозавры, они свирепые, огромные хищники. Думаю, мама хотела бы быть такой, но она такая няшная и очаровательная, глазастая, больная девочка, даже до сих пор – девочка, с девчачьими острыми плечиками, с девчачьими пушистыми ресницами, без единой морщиночки, с веснушчатым носом. Мама просто прелесть, она собирает волосы в самый высокий в мире хвост и рисует-рисует-рисует кости динозавров.
В весьма узкоспециализированном мире палеонтологов мама весьма известна. Она пишет длинные статьи сухим языком, которого от нее совсем не ждешь. Иногда (с годами все реже и реже) у мамы случаются приступы, тогда она падает и страшно трясется, но я уже научилась с этим жить и знаю, что в девяноста процентах случаев это совсем не страшно, просто выглядит ужасно, но проходит быстро и без последствий.
Мама с папой друг друга обожают, они оба ужасные чистюли и любят дурачиться. В детстве, когда меня спрашивали о моих родителях, я говорила, что больше всего на свете они любят чистить зубы.
Разве не логично? Что делают чаще всего, то и любят.
Такие у меня родители. А я-то какая?
Нет, расскажу еще про дядю Женю. Он, конечно, говорит называть его дядей Джеком, но пошел он. В принципе, мы друзья, если с ним вообще можно дружить. Так-то дядя Женя (слава Богу!) живет в Москве. Там он гоняет на желтой спортивной тачке («Ягуар» или типа того) и занимается непонятно чем.
Раньше мы тоже жили в Москве, но десять лет назад папа решил перебраться поближе к заводу. С тех пор ближайший к нам относительно большой город – Верхний Уфалей. Ну, знаете, никелевый город в вечной депрессии.
Не так далеко, даже из окна дома его видно – городок Вишневогорск. Это же называется моногород, когда одно предприятие дает работу большей части населения. Вот, Вишневогорск как раз располагается вокруг папиного завода. Людям там повезло, потому что никелевое производство в упадке, все закрывается, а папин комбинат – стоит, маленький, но гордый мясокомбинат, затерянный среди суровых металлургических заводов.
Так вот, Вишневогорск я все время вижу из окна, трубы его котельной, красно-белые и радостные, торчат и испускают клубы пара зимой, торчат и молчат летом, я вижу их каждый день и совершенно с ними сжилась, словно они – часть меня.
Раньше я думала, что это трубы папиного завода, потому что завод ассоциируется с трубами, разве нет? Я очень удивилась, когда папа объяснил, что трубы не имеют к его мясокомбинату никакого отношения, что это часть отопительного комплекса или вроде того. Теплостанция. Еще я удивилась, что в Вишневогорске вообще что-то есть, кроме папиной бойни. Откуда?
В Вишневогорске я была только один раз, но мало что помню. Мы тогда только приехали, все было новым и странным, особенно запах крови на мясокомбинате.
В Верхнем Уфалее я не была никогда.
Немножко была в Челябинске, но только в аэропорту.
Зато я хорошо знаю Москву, Биарицц и Сорренто. Туда мы летаем каждый год, раз в Биарицц и раз в Сорренто. Это все очень полезно для здоровья. Папа у меня помешан на здоровье, он бывший спортсмен. Все время говорит, что мог бы стать олимпийским чемпионом, у мамы в этот момент такое выражение лица, что я даже верю, хотя я и в принципе верю в своего папу.
Соседей у нас нет и не предвидится. Даже моим учителям необходимо было жить в Вишневогорске, чтобы до меня добираться, но папа платил такие деньги, чтобы год жизни (мало кто держался дольше) не казался им прямо уж потерянным.
Дольше всех продержался Сулим Евгеньевич, мой репетитор по английскому. Думаю, ему просто было все равно, где и как жить, а деньги он тратил раз в год, где-то за границей закупаясь брендовым шмотьем. Все остальное время Сулим Евгеньевич пребывал в жестокой депрессии, почти как Верхний Уфалей.
Вот и все. Есть еще тетя Тоня, кухарка, тетя Люся, горничная, и тетя Катя, дура. Раньше она, правда, была моей гувернанткой, я, вроде, выросла, даже достигла совершеннолетия (вот совсем недавно), но папа оставил тетю Катю на непонятной ставке, потому что у нее две дочки, которым надо оплачивать универ и муж-умирака, который все никак не откинется. Еще есть бесчисленные дяди-охранники и дяди-водители, этих даже считать не берусь.
В общем, я думаю, что я одинокая. Нет, конечно, я общаюсь со сверстниками по интернету или за границей. У меня есть настоящие друзья по переписке – Сильвия, Рафаэль, Мишели (девочка и мальчик), с которыми легко практиковать английский и которым просто рассказывать про свою жизнь.
Но в целом, я думаю, что я – куколка, из которой должна выйти, в конечном итоге, бабочка. Или какая-то фигня, не знаю. Куколка никогда не уверена в том, что она становится бабочкой, правда? Иначе все было бы слишком просто.
Счастлива ли я?
О да. Думаю, в рейтинге счастья по Челябинской области я – в верхней строчке.
В конце концов, мне ужасно повезло с родителями, с деньгами и со всем таким. Я в жизни не сталкивалась с большинством проблем жителей Вишневогорска и его окрестностей. Во многих случаях и представить себе таких проблем не могла. Я жила в стеклянной банке, в аквариуме, пока они барахтались в открытом море, синем и злом.
Мне нравилось, что я какая-то другая, чем-то отличаюсь от тех, кто меня окружает. Так я чувствовала себя лучше, чувствовала, что я особенная.
Мне и сейчас нравится думать, что у меня странная семья. Что я сама странная. Здорово быть кем-то всегда новым, всегда удивительным. Я хотела бы быть еще более странной, может, какое-нибудь уродство вроде заячьей губы, например.
Но все заканчивается. Вот, например, школа. Помню день, когда я сдала в Москве последний экзамен, самый сложный, по алгебре. Мы с родителями пошли тогда в «Баскин Роббинс», и папа заказал каждому по ведерку мороженного, мне – с печеньем. Мое любимое. Но почему-то я ковыряла розовой ложкой в мороженом и думала: я больше не школьница.
Мама спросила меня:
– Ритуля, так куда ты думаешь поступать?
Они смотрели на меня сверкающими глазами, и я поняла – радуются и грустят, ведь меня пора отпускать во взрослую жизнь. Я больше не ребенок, у меня нет никаких припадков, я не умру, а значит мне надо жить. Они в последнее время так и говорили: Рита, надо больше общаться, Рита, займись чем-нибудь, Рита, тебе пора социализироваться, нельзя провести всю жизнь в своей комнате.
Если честно, я расстроилась.
Я бы так и провалялась всю жизнь в моей чердачной комнате с треугольным окном, в теплой кровати, просто глядя в потолок.
Я молчала. Папа засмеялся:
– Ну, я так понимаю с людьми ты на работе взаимодействовать не очень хочешь.
– Можно взаимодействовать с предметами! – сказала мама.
Они переглянулись и засмеялись, папа посмотрел на меня с улыбкой, подмигнул мне.
– Да, цветочек, мы же все понимаем.
Я – цветочек, потому что Маргаритка.
– Тебе сейчас ни до чего, а? Не спеши. Это ответственное решение, никто тебя не гонит. Подумай. Ты ж не пацан, тебе в армию не идти.
Сам мой папа, кстати, выучился в очень и очень сознательном возрасте – после тридцати. Даже докторскую то ли написал, то ли за него написали. По экономике, вроде бы. В детстве пугал меня невидимой рукой рынка.
– Невидимая рука рынка схватит тебя, когда ты меньше всего будешь этого ждать! Прямо так схватит и потащит!
– Куда, куда? – верещала я, отбиваясь от вполне видимой папиной руки.
– В светлое будущее!
И мы смеялись, хотя я еще не вполне понимала смысл этой шутки. Думаю, теперь я понимаю его вполне.
И про светлое будущее, и про рынок, и про исторический контекст, и про истерический.
В общем, на меня напала ужасная тоска – школа закончилась, экзамены я сдала, и у меня не было ни одной идеи по поводу всей моей дальнейшей жизни. Мне ничего не хотелось. Жорик бы уже, наверное, подал документы в МГУ.
Мама с папой сказали, что я могу подумать, если захочу, я могу думать весь год, мне восемнадцать, я взрослая, я должна решить все сама.
Потом я нашла в интернете, что у американцев и прочих эльфов запада принято гулять год после школы, работать на какой-нибудь ненапряжной работе и заниматься самопознанием.
Я хотела устроить такой год себе, но оказалось, что самопознание меня бесит. Я себя не понимала. Цветочку Маргаритке нужен был не тщательный полив, а мешок удобрений на голову.
Вот, лето закончилось, три тягучих месяца, начался сентябрь, и я ожидала, что мы с родителями вот-вот махнем в Биарриц, дышать морским воздухом. Правда, у папы все не получалось с работой.
– Пап? – спросила я как-то. – А есть такая работа – плавать?
Папа сидел на террасе с планшетом, водил пальцами по экрану, цокал языком.
– Есть, – сказал он. – Цветочек, это работа в дельфинарии.
– Но дельфины – почти как люди, а социальную профессию я не хочу.
Он засмеялся.
– Можно плавать с тупыми дельфинами. С умственно отсталыми дельфинами. В интернате для дельфинов.
Не знаю, что его так насмешило, с ним бывали такие приступы. Папа отложил планшет и бил себя по коленке, а я стояла и смотрела на темную зелень трав в саду. Папа смеялся так заразительно, что, в конце концов, я тоже не выдержала.
– Все, блин, хватит, – говорила я, а папа все повторял и повторял про интернат для умственно отсталых дельфинов.
– Это как работать с детьми, – говорила я сквозь слезы от смеха. – А детей я не люблю.
К детям я и вправду – не очень, будто они могут в любой момент умереть.
Папа, наконец, прекратил смеяться, он погладил меня по голове, по рыжим, как у него, волосам.
– Нормально все. Я тебя понимаю. Когда я узнал, что в спорт мне закрыто, тоже долго думал, кем мне все-таки стать.
– Ну, это хорошо, – сказала я. – Потому что мне в спорт тоже закрыто.
И опять папа начал смеяться, спасло его только пиликанье планшета, он встрепенулся.
– Молодые люди одинаковы во все времена. Вот тебе совет, – он сделал вид, будто засовывает что-то мне за ухо, я это вытащила:
– Не надо мне советов!
– Что, не нравятся уже папины советы? Взрослая стала? – он снова посадил «совет» мне на ухо.
– Не спеши и не бойся ошибиться, – сказал он. Совет, я считаю, в своем роде гениальный. Срабатывает почти везде. Не знаю ни одного места, где спешка шла бы на пользу. А, может, я просто плохо знаю другие места, все, что находится дальше моей кровати.
В общем, я решила следовать папиному совету и никуда не спешить. Так начался мой первый сентябрь без без домашек и без новых учителей.
Родители эту тему не поднимали, я тоже. Мы заключили молчаливый пакт: все в этом доме молчат о будущем, которое наступит не в двадцать пятом веке, а вот-вот. Даже Катю как-то убедили не проводить со мной душещипательные беседы. Она многое потеряла, потому что как раз к ним-то я и была расположена в тот момент больше всего. Может, рассказала бы мне Катя, как тяжело жить в этом мире, как важно иметь с легкостью превращающуюся в деньги профессию, какие опасности меня поджидают – и я бы прониклась. Но вряд ли. Не скажу, что я чувствительный человек.
Где нужно работать не очень чувствительным людям? Вряд ли там, где люди беззащитны. Еще я могла бы стать суперзлодеем. Это, кроме прочего, и весьма весело. Но где учат на суперзлодея? Наверное, в Нефтегазовом.
Не знаю, все мои варианты были довольно оторваны от жизни.
Никто меня не торопил, но я стояла с кнутом над собственной же спиной.
– Давай! – говорила я зеркалу. – Найди хоть что-то!
Мама, видимо, с намеком даже подарила мне справочник со списком из пяти тысяч профессий. Несколько мне понравилось, вот они: запихивать людей в вагон метро, дегустировать дегустационные сеты в супермаркете в надежде, что они не испортились.
Такая работа по мне. Жаль, я живу слишком далеко от метро и торговых центров.
Однажды в дайрях я наткнулась на дневник девчонки, которая умирала от рака. Ей было ровно столько же, сколько мне. Она описывала свое состояние, документировала страдания, всякое такое, но и радости у нее были – прогулки с друзьями (она уже была прикована к инвалидному креслу), форумные ролевые, стихи и фанфики, которые она писала. Как-то мы договорились встретиться, я как раз была в Москве. В тот день, утром, она выставила пост, показала фотку анализов, в верхней графе, под ее именем (Анастасия Кошкина, а я знала ее, как Трикси) значился год рождения. Мой год рождения – девяностой второй год.
Ей было всего семнадцать лет, как и мне тогда.
Я ведь это знала, но, увидев – испугалась все равно. Я подумала, может, я тоже умру от рака? Я всегда думала, что умру от эпилепсии (которой у меня даже не было), но, может, я умру от рака. От чего я вообще умру? Я почему-то расплакалась, не знаю, сидела и растирала по лицу слезы. Зашла мама, спросила:
– Что-то грустное пишут?
Она как-то беззащитно улыбнулась, даже чуть виновато, села рядом со мной, взглянула на экран компьютера. Мама провела пальцем по брови, вроде как, чтобы не хмуриться, затем лицо ее просияло.
Она сказала:
– Малышка, у меня для тебя кое-что есть. Я совсем забыла!
Мама унеслась в свою комнату, а вернулась с книжкой.
– Сулим Евгеньевич же учит тебя английскому, да?
Книжка называлась «Когда умирают динозавры», то есть «When Dinosaurs die». На обложке были изображены милые, мультяшные ящерики. Семейство, мама и двое детей, девочка и мальчик (или самочка и самец?) сидело на ступеньках у дома, одиноко валялся у крыльца желтый мячик, с любопытством наблюдали за сценой кот и собака. Мама обнимала дочку, сын обнимал кота. У всего семейства были печальные, растерянные лица, мама что-то объясняла детям. А мимо на велосипеде ехал еще один динозаврик, он смеялся.
И, в принципе, после этого книжку можно было не открывать. Чья-то жизнь всегда продолжается, кто-то и думать не думает и знать не знает о смерти, это всегда ненадолго и это всегда так.
Семейство потеряло кого-то близкого, наверное, отца, а этот мальчик-динозаврик на велосипеде ехал мимо, и его жизнь была светлой и радостной, и это было нормально.
– Когда мы с Витей были в Америке, – сказала мама. – В девяносто шестом, я увидела эту книжку в магазине. Выбирала тебе подарок. Динозаврики были такие милые, я прямо там и расплакалась, глядя на них. И все время думала, как я подарю тебе книжку, и мы все обсудим. Сама ее прочитала, представляешь? Там хорошие вещи пишут о том, как больно терять близких людей, о том, как это пережить. Уже в Шереметьево я подумала, что эту книжку тебе читать все-таки не буду, рано. И я ее спрятала. А теперь вспомнила.
Книжку я прочитала (такая тоненькая!), мне было грустно и больно оттого, что когда-нибудь это произойдет и со мной – я только пока динозаврик на велосипеде, а когда-нибудь стану динозавриком на крыльце, и все.
Меня ужасно проняло, но я все равно написала Трикси, что не смогу приехать, что родители меня не отпускают. Хотела написать, что я заболела, но это же было бы ужасно? Вот Трикси – заболела так заболела.
В общем, может, она ничего и не поняла. Я же писала, что не учусь в школе, она могла думать, что у меня гиперопекающие родители или что-то вроде того.
А если все-таки поняла? Блин, думала я, как стремно. Еще и родителей сюда приплела, а если проклятье умирающей падет на них, например?
В общем, я никогда с Трикси не встретилась, и от дневника ее тоже отписалась, отказалась знать, жива она или нет.
Я боюсь несчастных людей, боюсь, что они могут заразить меня своим несчастьем. Я ужасно эгоистичная. Поэтому я не подхожу для того, чтобы работать с детьми, стариками или умирающими. Я не могу им ничего дать.
Мой папа говорит, что у каждого человека есть свое место, что каждый человек необходим для того, чтобы работала эта штука под названием человечество. Даже люди, которые кажутся нам очень плохими или бесполезными, нужны для чего-то. Все на месте.
Но я чувствовала, что целая планета вращается без меня. Так вот начался сентябрь – пряный, зябкий, гладкий от дождя. Я подумала, что у меня есть еще год, чтобы выяснить, кто я, что это много.
Но вместо того, чтобы читать справочник или рыться в интернете, или проходить тупые тесты на профориентацию, я целыми днями смотрела в окно, которое все сильнее и сильнее с каждым днем слюнявил дождь. За окном был лес, а дальше – трубы Вишневогорска.
Дома пахло деревом, смыкалась надо мной крыша дома, два ската кровли целовались над моей головой. Я смотрела и туда – в черную щель и ждала появления пауков. На самом деле я боюсь насекомых.
Еще я читала книжки и писала посты в дайри – один бессмысленней другого.
По утрам мы с папой бегали, он хотел меня взбодрить. Папа выходил на пробежки столько, сколько я себя вообще помню, в любом состоянии, в любом настроении. У него была старая травма – как-то, перед самым поступлением в институт физкультуры, в уличной драке ему порезали сухожилие. Понятно, что ни в какой институт он уже не поступил, подвижность ноги восстановилась, но только до определенных пределов, никакой папе легкой атлетики, или чем он там занимался. Вроде бы проблема заключалась в том, что он не мог больше прыгать без боли. В общем, когда ему порезали сухожилие и в тяжелый послеоперационный период – тогда папа не бегал по утрам. В остальном, это было ясно, как день – что бы ни случилось, дисциплина и спорт прежде всего.
Папа говорил, что бег разгоняет мысли, а также приятно знать, что кое-что в жизни никогда не меняется. Он говорил:
– Ты, короче, представь себе, что едешь в поезде, да? За окном каждую секунду все новое, но внутри это все тот же поезд, все те же стаканы с подстаканниками, обоссанный сортир, толстые тетьки, толстые дядьки. Все то же. Вот это – очень успокаивает.