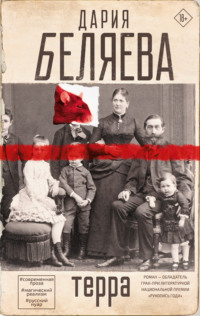Полная версия
Ни кола ни двора
Я вдруг поняла, почему он останавливается так часто – дышать ему тяжело, вот и все.
– Не, – сказал он. – А хули надо?
– Ну, не знаю, вы отсидели в тюрьме. Вам виднее.
Почему-то мне не хотелось знать, за что. Я боялась, что тогда не смогу в него влюбиться.
А теперь, подумала я, просто поцелуй меня, пожалуйста. Или обними. Что-нибудь в этом роде, сделай это со мной, в конце-то концов.
Я снова представила, как клевски будет сказать кому-нибудь, с кем я лишилась девственности. Что-то вроде того:
– И кто был твоим первым, Рита?
– Да, неважно. Один зэк из отцовской бригады. Он еще сошел с ума. До секса со мной, а не после, конечно.
Как же круто.
– Мы что, прям в озеро пойдем? Тоже мне, нашли Вирджинию Вульф.
– Не. Посидим на мостике.
– Мостике?
– Это же твое озеро.
– Ну, номинально оно общее.
Я смутилась. И вправду, деревянного мосточка я совсем не помнила. Мне казалось, он возник здесь по волшебству. Мы спустились вниз, прошлись по нему, скрипнувшему пару раз, уселись на краю. Передо мной было озеро, окаймленное тусклым по-осеннему лесом.
А как красиво станет, подумала я, когда смерть все здесь озолотит.
Лес казался темным по сравнению с искрящимся озером. Я подумала, что озеро в блестках – как моя крошечная жизнь, темнейший лес обступил ее со всех сторон, и что толку, что она сама такая хорошенькая, такая благополучная.
Толик вдруг сказал:
– У тебя палец опух.
– А? – я махнула рукой. – Это несерьезно, я даже не заметила.
Толик схватил меня за щиколотку, сказал:
– Сейчас от холодной воды нормально будет.
Я заверещала:
– Не надо! Она же холодная!
– Во!
Он засмеялся, я тоже, но, скорее, нервно.
– Отпустите! Не надо!
Да уж, я думала, что буду кричать что-нибудь такое совсем в другой ситуации. Толик сказал:
– Да расслабься, получай удовольствие.
Он, видимо, тоже думал, что будет говорить это в какой-то другой ситуации, а, может, просто понял, что пришло в голову мне.
Некоторое время я вырывалась, а потом сдалась, Толик опустил мою ногу в воду, и это было лучше, чем я представляла. Может, и с сексом так же.
– Полегчало? – спросил Толик. Он все еще держал мою ногу. Мне показалось, он старается заглянуть под мою ночную рубашку, чтобы, может быть, все-таки все понять про мое белье.
– Да, – сказала я. Мы помолчали. Наконец, Толик отпустил меня, я выпрямилась поглядела на мою белую, как у утопленницы, ногу в прозрачной, холодной воде. Всему остальному телу будто стало теплее.
– Вы так и не сказали, почему вы не ненавидите себя.
– Да это все херня. Типа ты был плохим, давай теперь херачь себя плетью, пока не сдохнешь. Это никому не надо. Человек не может ничего отдать другим, пока ему больно. А я хочу отдавать. Хочу помогать. Мне хочется быть счастливым, так я смогу отдавать другим то, чего у меня излишек. Врубилась?
– А почему нельзя помогать, когда тебе больно?
– Ну, тебе нечего же отдать. У тебя ничего нет, кроме боли.
Я пожала плечами.
– И что? У людей, в общем и целом, ничего, кроме боли, нет.
Я вдруг осознала, что еще ни с кем не была так откровенна. И никогда. Я привыкла к тому, что просто скучаю и ленюсь, что за этим в самом деле ничего не стоит.
Толик вдруг вытянул руку, ногтем содрал корочку с ранки на сгибе локтя и протянул ее мне.
– Хочешь?
– Что?!
– Вот, – он кивнул. – Вывезла все, гляди-ка.
Я смотрела на красно-желтую чешуйку, стараясь не зажмуриться и не отвернуться.
– Когда тебе больно, только это ты и можешь дать. Надо всех простить, всех и себя. И все отпустить. Сечешь? Жизнь продолжается. Что бы ни случилось. Умер ребенок? Смертельная болезнь? Война? Все равно продолжается, и пока живешь, надо жить счастливо.
Он говорил горячо и страстно, с религиозным пылом, глаза его сияли.
– Этого хочет Бог?
– Счастья. Счастья для всех. Надо быть счастливым и помогать другим. Сначала надень кислородную маску на себя, а только потом – на мелкого. Бог – это просто пилот. Он не выйдет из-за штурвала, чтобы застегнуть на тебе жилет.
Он схватил себя за шею, закашлялся, а я смотрела на него ошарашенно. Мне не верилось, что я говорю с Толиком о таких вещах. Я думала о сексе, о физической близости, вовсе не о том, что доверю ему свои переживания. Я их никому не доверяла, даже самой себе.
Толик сказал:
– Надо быть счастливым, счастливым надо жить.
Неожиданно он наклонился, снова взял мою ногу и принялся смывать водой грязь. Сердце у меня забилось часто-часто.
Толик сказал:
– Но я тебя жизни учить не буду, живи ее, как хочешь.
Он опустил и мою вторую ногу под воду, я подалась назад, от холода свело даже плечи. Запрокинув голову, я увидела большое, пушистое облако. Я почти не чувствовала прикосновений Толика, но ощущала кое-что другое: странное, томительное и доверчивое чувство.
И свое желание я тоже представляла себе совсем не так.
Толик сказал:
– Тебе бы поглядеть, че в мире есть. Может, поняла бы, какое тебе интересно. Витек с Алечкой родители хорошие.
Но. Здесь было какое-то «но».
Я сказала:
– Хочу искупаться.
Он сказал:
– Давай.
– А я не утону от холода?
Толик повел плечом, любимое его, странное, рваное движение.
– Без понятия. Но если хочется так, то это без разницы. С осознанием того, что за косяки при любых раскладах отбашляешь живется легче.
Вот такая вот философия на фене. Фенесофия.
Я сказала:
– Тогда отойдите.
Я подумала, стоит мне разбежаться и прыгнуть, рухнуть в холодную воду, как я тут же стану другим человеком. Может, мы поговорили, я открылась, а теперь я окунусь в местный Коцит, и стану новой Ритой. Ритой-лучше-прежней. Все обрадуются.
Толик отошел в сторону, как можно дальше, так что пятки его качались над водой. Я прошлась по мостику обратно, скользя мокрыми ногами, боясь грохнуться.
Это оказалось проще, чем я думала. Я разбежалась и просто не останавливалась. Рухнула в ледяную воду, такую холодную, что, я знала – в ней можно умереть.
Наверное, это цепляло меня больше всего. Возможность. Не такая уж и плохая из меня вышла Вирджиния Вульф.
Было неожиданно глубоко, и я ушла под воду. Больше она не казалась мне прозрачной, теперь вода стала черной. Странное дело, я не касалась ногами дна. А, может, это и иллюзия, может, так причудливо моя память сложила чувства и реальность.
Солнце пробивалось сюда с трудом. Я даже хотела остаться здесь, внизу, но нестерпимый зуд в груди, зуд, переходящий в жжение, заставил меня выплыть, вырваться из воды. Толик подхватил меня.
– Наплавалась?
Я покачала головой.
– Нет! Хочу еще!
Я снова нырнула, ушла под воду, свет мгновенно померк. Мне захотелось сделать глубокий вдох. Я знаю, это глупо. Думаю, на самом деле я не желала смерти. Поэтому я не сделала того вдоха. Я просто задержала дыхание и смотрела на отдаляющийся, охватываемый чернотой со всех сторон, почти голубой свет. Как будто пространство надо мной стянул лед.
Меня вытащил Толик. С неожиданной для его болезненности силой, он схватил меня и вырвал из воды. Меня била крупная дрожь, руки и ноги дергались. Толик прижал меня к себе, он казался невероятно горячим, как огонь. Его золотые клыки нестерпимо, почти мультяшно сверкали, когда он сказал:
– Хорош, хорош!
– Ты же сам сказал! – крикнула я. – Башлять за косяки, или что?
Он засмеялся.
– Во-во!
Он прижимал меня к себе, обтирал ладонями до жжения, руки его, в какой-то момент, в какой-то очень мимолетный миг, были под моей рубашкой, но ни он, ни я, ничего не успели понять.
– Пошли, Ритка.
Я заплакала.
– Девки сложные.
Я завыла.
– Ну-ну.
Он мягко донес меня до конца моста и поставил на землю, на влажные листья, склизкие, подгнивающие. Они были не золотые и не красные, зеленые с прочернью – просто палые, не до конца осенние еще.
– Давай, Ритуля, – сказал он. – Шевелись.
Мне не было плохо физически, но я ощущала такую боль. А думала, что мне станет легче. Мне даже пришло в голову, что я одержима дьяволом. Что во мне сидит какой-то демон, который и делает так больно. Иначе это объяснить не получалось – жжение в груди, будто на душу вылили кипяток.
Я плакала всю дорогу обратно, сумела собраться только перед самым домом. Я представляла: если нас встретят, решат, что Толик меня изнасиловал. Мне совсем не хотелось, чтобы о нем так думали.
Я сказала:
– Расскажи мне анекдот.
– Ну, я так не могу, по заказу-то. Я ж тебе не клоун.
– Тогда просто расскажи что-нибудь, что угодно. Хочешь, историю расскажи.
– Не хочу, – сказал Толик. – Ладно, слушай анекдот. Приходит новый русский, значит, в ювелирку и говорит: крест бы надо, да побольше. Ему показывают кресты, один, пятый, десятый, он смотрит, потом кивает: вот такой вот хочу. Тока вы это, гимнаста снимите.
Почему-то я засмеялась, и смеялась до самых ворот, пока мы не столкнулись с папой.
Он выходил на пробежку. На лице у него совсем не было волнения, конечно, он думал, что я сплю. Мне даже было жаль забирать у него эти секунды спокойствия. Когда он нас заметил, я сразу сказала:
– Блин, пап, я случайно в озеро упала.
– Что упало, то пропало, – сказал папа и засмеялся. А потом до него дошло.
– В дом, живо!
– Пап, я…
– В дом!
Толик улыбался, папа посмотрел на него искоса.
– А ты уж останься.
– Да ну да.
Я снова попыталась высказаться:
– Пап, я…
Тогда он взял меня за руку, крепко и мягко, и повел домой. Я семенила за ним, все время оглядывалась на Толика.
– Он мне ничего не сделал, – прошептала я. – Просто мы пошли гулять.
– В ванную, а потом напряги Тоню сделать тебе чай с имбирем, она как раз завтрак готовит. И с медом!
– Не выгоняй его! Я упала случайно! Он спас мне жизнь!
– Рита, иди домой.
Папа втолкнул меня в коридор и закрыл за мной дверь. Я осталась стоять в очень тихом, еще по-утреннему сонном доме. Снаружи папа что-то говорил Толику, тише, чем я ожидала. Тогда я глянула в окно – Толик улыбался и кивал, потом развел руками с такой комической тоской, что папа, кажется, засмеялся.
Ну, подумала я, разберутся без меня.
Папа отчего-то давал Толику очень большой кредит доверия.
Я осторожненько пошла вперед. Мои следы на паркете, чистом и гладком, были темными. Я подумала, что я, будто живой мертвец, вырвавшийся из тесной утробы могилы и вернувшийся домой. К пятке моей прицепился гнилой лист, и он тащился со мной до самой ванной.
В ванной я скинула ночную рубашку, стянула трусы и осталась только в цепочке с крестиком, сердечком и якорьком.
Мой палец стал уродливым и красным, мои глаза – тоже. Мои ноги были грязными.
Я долго водила ладонью от груди к животу и ниже, представляла, что это делает Толик. Потом набрала полную ванную горячей воды и залезла в нее, не обращая внимания на боль.
Вода стала серой от грязи.
Я долго лежала, не особо понимая, на каком я свете. Лампочки над головой сверкали, сияли – будто нимбы, но без икон. Палец болел так сильно, что хотелось плакать, но я держалась.
Я не какая-нибудь там слабачка, я очень хорошо выдерживаю физическую боль. В детстве я почти не плакала, а потом стала плакать много, словно прорвало дамбу моего терпения.
Почему-то я снова подумала о Жорике, о том, что у него не было бы всех этих проблем. Во всяком случае, он бы точно не вступал в странные отношения с папиным другом Толей Тублом.
Жорик бы знал, кем хочет стать, и в это самое время, наверное, спешил бы на пару где-нибудь в Москве или даже в Лондоне. То есть, тогда не в это же самое время, в аналоговое время, но вы ведь поняли.
Жорик бы не раздумывал, сделать ли ему самый важный вздох.
Даже если бы Жорику было нестерпимо больно, он решил бы все быстро и без лишних сантиментов. Он сверхчеловек, этот Жорик.
Через какое-то, крайне неопределенное, время я услышала голос Кати.
– Рита, чай я оставлю в твоей комнате. Смотри, чтобы не остыл, выходи давай.
– Ладно! – крикнула я. – Сейчас.
Но вместо этого я еще долго, почти без перерыва, мастурбировала в грязной воде. О Толике я не думала. Я вообще ни о чем не думала. Черная пелена казалась мне довольно сексуальной.
Я вышла из ванной недостаточно чистой. Долго вытирала полотенцем волосы, но удовлетворенной не осталась – ни в одном из смыслов.
Господи, подумала я, чего же мне не хватает? Меня любят, я здорова, молода и богата. Почему я несчастна?
Распустила сопли, ты просто не видела боли. Так ответил мне мой внутренний Бог. На себя, грязную, я напялила чистую ночную рубашку, розовую с тортиком. На тортике горело шестнадцать свечек. Значит, рубашке было два года.
Хотелось лечь в постель, но для начала я решила навестить Толика. Мне было интересно, я подумала, может быть, он там тоже себя трогает, может, он думает обо мне?
Я осторожно, на цыпочках спустилась на один пролет вниз, прошлась до его комнаты легко, как ветерок.
Перед дверью я замерла. Почему-то сложно было решиться к нему войти, даже просто посмотреть на него.
В какой-то момент мне даже показалось, что я придумала Толика, вот и все, и комната пустая. Отрезвил меня навязчивый, стойкий запах табака. Как будто он курил в этой комнате уже двадцать лет.
Наконец, я открыла дверь.
В комнате, хотя, может, мне и показалось, было чуть туманно от дыма. Толик лежал на спине, в зубах сжимал сигарету, он не шевелился. Совсем-совсем.
Может, нашел удобную позу, чтобы дышать, расправил, так сказать, легкие.
Некоторое время я думала, что Толик спит, потом поняла, что глаза у него приоткрыты, совсем чуть-чуть, так и не увидишь ничего.
Он казался каким-то блеклым, изможденным, как свежий труп.
Неожиданно Толик вскинул руку, мягко провел по воздуху пальцами, лениво мне помахал, в общем-то. Я даже испугалась, хотя ничего такого в его жесте не было.
Как испугалась бы, если бы кто-нибудь помахал мне из гроба.
– Как дельфин, помнишь?
Его голос был хриплым, сигарета в зубах почти догорела, на ней образовался длинный столбик пепла, который Толик умудрился сохранить, произнося эти слова.
– Не подожги дом, – сказала я. – Пожалуйста.
Толик едва кивнул, и столбик пепла, наконец, упал ему на грудь. Он прижал пепел ладонью, как надоедливое насекомое.
– Пожалуйста, – повторила я.
Толик сказал:
– Спасибо.
Он хрипло засмеялся, открыл и снова прикрыл глаза. Толик находился в странном состоянии, в полудреме. Я подумала, что сейчас могла бы с легкостью залезть на него, расстегнуть ему штаны, потрогать его немного и сделать все самостоятельно.
Не знаю, почему я так подумала.
Мне такого даже не хотелось, мне хотелось быть желанной. Просто это была возможность.
Толик сказал:
– Тебе бы поспать.
Я сказала:
– Тебе бы тоже.
Он скосил взгляд на меня, едва заметно улыбнулся, и я подумала: по-своему он спит.
– Спокойной ночи, – сказала я. – То есть, утра.
Я закрыла за собой дверь и так же осторожно вернулась к себе в комнату. Чай уже совсем остыл, но я все равно его выпила, практически одним глотком. Я открыла окно и покурила, стараясь, как и Толик, не выпускать сигареты изо рта. Получилось плохо. Потом я кинула бычок в шкатулку с колечками, дав себе зарок завтра точно выбросить оба окурка.
В конце концов, я легла спать. Залезла под одеяло, согрелась снова, поглядела в окно, причем совершенно бездумно. В блаженной, дзеновой пустоте, которая всего этого стоила. А ведь я ожидала, что в голове будут бешено вертеться мысли, но очень быстро стало темно.
Глава 3. Зачем помогать людям?
Тем вечером, проснувшись, я наведалась к папе. Он сидел перед компьютером в кабинете, в зубах у папы была зубочистка, он перекатывал ее туда-сюда. Наверное, появление Толика надолго пробудило в нем давние воспоминания о сигаретах.
Интересно, почему мама не вызывала у него такого желания закурить? Может, потому, что мама-то маячила рядом каждый день, а Толик оказался приветом из прошлого, когда у папы в зубах все время была сигарета.
Я спросила его:
– Когда ты начал курить?
Я стояла на пороге. У папы в кабинете пахло деревом и бумагой, так гладко и чисто. На столе перед ним стояла чашка с чаем, на блюдце покоились крошки от печенья или бутерброда. Покой этот был обманчив, от неловкого движения они могли разлететься в любой момент и испортить идеальную безмятежность папиного кабинета.
На стене висела литография Кибрика, очень известная – Ласочка. Озорная черно-белая девочка с вишенками в зубах и дьявольщинкой в длинных, веселых глазах. Чем-то она, пусть и очень отдаленно, напоминала мою маму.
Папа сказал:
– Когда понял, что в спорт не попаду.
Он ответил мне очень спокойно, но неестественно ладно, как будто именно этого вопроса ждал всю жизнь, его опасался.
Я сказала:
– Нам надо поговорить.
Папа кивнул.
– Ну, да. Не без этого.
Нормальный кабинет, стол из красного дерева, приятное глазу освещение, темные шторы, стеллаж с книгами, которые папа ни разу в своей жизни не открыл.
Я знала, что Люся ленится вытирать с них пыль, что папа делает это сам, потому что любит порядок.
Папа в своем красном спортивном костюме казался здесь неестественным, совсем чужим, будто его нарисовали маркером на фотографии в журнале.
Я села на стул перед ним, будто собиралась что-то у него просить. Открыла рот, и – не поняла, как именно заговорить с ним.
Папа сказал:
– Я знаю, все это для тебя очень неожиданно.
– Да уж, – сказала я. – Почему ты со мной об этом не говорил?
Папа перекусил зубочистку, уложил ее, аккуратно, как ребенок – мертвое животное в могилу, на блюдце.
– Потому что я не думал, что ты к этому готова. И что тебе это интересно.
Он лукавил. Но и я лукавила, потому что я могла задуматься обо всем этом и раньше. О том, что папино прошлое с папиным настоящим не сходится, или, может быть, сходится, но каким-то неестественным образом, как две части, принадлежащие разному целому.
Мой папа – монстр Франкенштейна.
– А если бы твой друг не приехал?
– Тогда я бы, наверное, не решился, – просто ответил папа. – Это не слишком приятный разговор. Не надо ворошить прошлое.
Прошлое – осиное гнездо.
Я сказала:
– Значит, ты не думал поговорить со мной об этом?
– Думал, – ответил папа. Он улыбнулся, красиво и блестяще. Я впервые подумала, что, может быть, зубы у него искусственные. Хорошая керамика, например.
– Ты считаешь, что я недостаточно взрослая?
Он нахмурился. Безусловно, папа так считал. Родители всегда считают своих детей недостаточно взрослыми, ну хотя бы для чего-то. Во всяком уж случае для опасных поступков и знаний.
Я сказала:
– Ты думаешь, я тебя выдам?
Папа засмеялся и смеялся долго, даже пару раз стукнул кулаком по столу, крошки взметнулись вверх и приземлились на черно-красную, в прожилках деревянную поверхность. Папа, не переставая смеяться, смахнул их в ладонь и вернул на место.
– Не думаю, – выдавил он, наконец. – Я думаю, что это просто, в конце концов, не так уж важно.
– Но это – ты, – сказала я. – А значит, это и я. Мое прошлое. Моя семья.
Папа взглянул на литографию с Ласочкой.
– И что ж нового ты о себе узнала?
– Что я – дочь бандита.
– Ты всегда была моей дочерью.
Он не говорил «бандита», не мог это из себя выдавить. У папы было спокойное, почти умиротворенное лицо, но что-то все-таки мешало ему сказать «дочь бандита».
– Ты убивал людей?
Он сказал:
– Это такой вопрос.
– Какой вопрос?
– Сложный.
– Ты оставлял их полуживыми и не знал, спаслись они или нет? Почему это сложный вопрос?
Папа помолчал. Я облизала палец и принялась собирать крошки с блюдца, отправила их в рот, оказалось – останки песочного печенья.
– Хорошо, – сказал он. – Я убивал людей. Но если бы я этого не делал, убили бы меня.
А то. Все так говорят.
– Тебе нравилось? – спросила я. Вопрос, на который ни один родитель не ответит честно.
– Нет, – сказал папа. – Не нравилось. Отвратные чувства на душе после этого.
– Отвратные чувства? – переспросила я. Папа как-то углядел в этом обвинение.
– Это было необходимо. На мне были мать, умирающий отец, братья, потом твоя мама. Мне нужны были деньги.
– Всем нужны были.
Папа вдруг сказал, абсолютно беззлобно, с каким-то дзеновским спокойствием.
– Хорошо об этом здесь поговорить?
Здесь, в хорошем, теплом доме, сытой, здоровой и богатой.
Да, хорошо.
– У всего есть цена, – сказал мне папа. – Это нормально. Так, цветочек, устроен мир.
Может, подумала я, он впустил Толика в наш дом, потому что Толик это то, что могло бы стать с папой. Его неслучившаяся судьба, от которой ему так хочется откупиться.
Я сказала:
– Ты отбирал у людей деньги? И тебе не было стыдно?
Папа развел руками, даже чуточку комично, наморщил нос.
– Деньги не пахнут.
Сдаваться я не собиралась.
– Папа, – сказала я с нажимом. В детстве это всегда работало.
– Это был этап, – отозвался он. – Послушай, начиналось все довольно прилично. Ребята на рынке просто просили их прикрывать, немножко помочь, припугнуть жадных партнеров, не знаю, поговорить с кем-нибудь, серьезные морды построить.
– А потом?
– А потом я подумал, что из этого выйдет неплохой бизнес. Много было тогда разной швали, карманники, наркоши, жулики. Я подумал, что можно защищать барыг, чтобы не кидали, не лезли. Получать за это деньги.
Я думаю, это была часть правды. Может быть, ощутимая часть.
– Потом все завертелось. Думать над тем, что будет завтра я начал, наверное, году в девяносто восьмом. До этого вещи очень быстро случались.
Говорить с ним было тяжело. Казалось, я из него не признания вырываю, а зубы.
Мой милый, смешной, идеальный папа, такой добрый и отзывчивый, наверное, тоже вырывал людям зубы. Если они не хотели, например, чтобы их не кидали.
Мы смотрели друг на друга. Папа казался мне беззащитным. Наверное, никто не хочет отвечать, в конце концов, перед своими детьми.
– Так что ты хочешь знать?
Ответ на этот вопрос у меня был. Вернее, у меня был вопрос. Может, самый важный из тех, которые я когда-либо задавала папе. Важнее, чем вопрос о том, почему небо такое голубое, а трава так зелена.
– Что самое ужасное ты сделал в жизни? – спросила я.
Я ждала честного ответа. Мы смотрели друг на друга, я все думала, решится ли он. Думала, что если решится – не разлюблю его, что бы там ни было.
И вообще, честно говоря, он мой папа, что бы он ни делал, он купал меня в море, придумывал для меня истории, он был рядом, когда я грустила и радовалась, целовал меня, когда я плакала, давал мне руку, когда мне было тяжело подниматься в горы.
Папа сказал:
– Я поджег дискотеку.
Мой папа, которого я так любила, который всегда был рядом, который рисовал вместе со мной мелками и наряжал со мной елку, вряд ли имел в виду, что ему жалко какой-нибудь интересный интерьер или труд владельца клуба.
Он имел в виду, что он поджег дискотеку вместе с людьми.
Я не хотела молчать долго и не хотела делать ему больно, поэтому спросила:
– А дядя Толик? Каким он был?
– Ужасно гонорливым и вспыльчивым, мрачным в каком-то смысле, он одиночка такой. Характер у него был – не дай Боже. На поворотах очень крутой. Но смешной он всегда был. Особенно маленький. Он же меня на пять лет младше. Мы с ним познакомились, когда Толику едва только двадцать исполнилось.
О Толике папа говорил с теплом, с какой-то даже радостью.
– А у тебя есть твои фотки? – спросила я. – Из тех времен.
– Отчего ж нет, – сказал он. – Есть какие-то.
– Покажи.
Папа ушел, оставив меня в кабинете одну. Я смотрела на настенные часы, на то, как продвигается вперед секундная стрелка, быстро, будто подгоняемая ветром и на то, как медленно ползет, преодолевая сопротивление, минутная. Вроде бы они на одном циферблате, но какая разная судьба.
Папа вернулся с пачкой фотографий, положил их передо мной, встал рядом.
– Полюбуйся-ка.
И почему только я никогда не спрашивала об этом, почему не хотела посмотреть на папу с мамой молодых?
На первой фотке мамы не было, только папа и какие-то ребята. Все в разноцветных болониевых спортивных костюмах, стояли они тесно, как футбольная команда.
Папа был в середине – молодой, еще рыжее нынешнего, светлый, улыбчивый, такой хороший парень из хорошего кино. От него исходила радость молодого и здорового животного, веселого пса. Папа стоял с цепью, намотанной на руку на манер кастета.