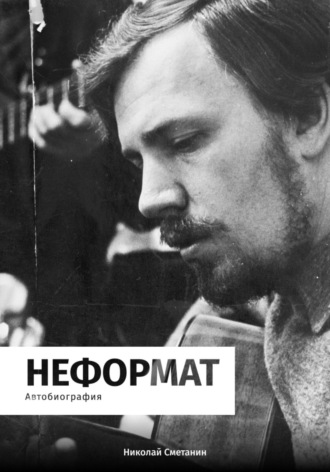
Полная версия
Неформат
– У вас только один Сметанин получает сегодня пятёрку, а остальные – увы…
Из пятёрочниц никто не возмущался, они хорошие девчонки-то, только попросили:
– А можно посмотреть?
Громче всех кричал троечник Васька Журихин, по-моему:
– Не может быть! На «четвёрку-то» я написал!
– А у тебя, Василий, – ответил учитель, – восемь ошибок!
– Не может быть!
– Но это, увы, так, Вася, – продолжил он. – Я когда в параллельном классе давал этот диктант, там был установлен рекорд – четырнадцать ошибок орфографических, я запятые у них даже и не засчитывал, бог с ней, с пунктуацией. Но четырнадцать орфографических ошибок в одном предложении – это многовато. Вот, я пишу это предложение на доске – сами сверяйте.
– Читайте книги, читайте! Читайте больше, потому что всё в школе изучить невозможно, русский язык очень труден тем, что его надо понимать, чувствовать и помнить. Почему это слово так пишется? Да просто потому, что именно так сложилось, так пишется, и всё.
Я-то как бы родился в русском языке, в нем купался, и у меня нет проблем, память за меня работает. Знаю, многие молодые журналисты, например, пишут с ошибками, и этому не удивляюсь даже. Почему? Книги читают мало, всё больше в интернете сидят. Заглянул и я в интернет, почитал там статьи и ужаснулся: сплошь одни орфографические ошибки, причём в редакционных статьях! Я даже не говорю о том, как письма пишут или комментарии какие-то. А вот взять статью профессионального автора, и там – орфографические ошибки. Да не одна ошибка, их там десяток и больше. О пунктуации и речи нет. Ну как так можно?
Теперь молодые люди и дети сидят в интернете вместо того, чтобы читать книги, особенно прежние издания – тогда ещё настоящие редакторы и корректоры были. А чтение в интернете не способствует улучшению грамотности, потому что там – каждый сам себе редактор – как написал, так и хорошо для него. Там русскому языку научиться нельзя, вот неграмотность и нарастает, как снежный ком. Если ты интуитивно чувствуешь, ты напишешь, как надо, а если не чувствуешь…
Вообще-то, надо признать, что русский язык действительно очень сложен, там множество исключений из правил, его надо как-то упрощать. Любой язык развивается с течением времени. Установили правила, то есть формализовали русский язык не так давно, в середине XVIII века (первая «Российская грамматика» М.В. Ломоносовым опубликована в 1755 году). В других европейских языках – то же самое. Если читать современному французу или англичанину тексты из их книг XII или XIV века, они немного поймут, как и мы без специальной подготовки не понимаем старославянский язык – и тут, и там нужен перевод! Ещё царским правительством была задумана реформа русского языка, но не проведена. В 1918 году её провело уже советское правительство, кое-что упростили: убрали с конца твердые знаки, было два или три варианта «и» – заменили на одно. Куда их столько? То есть кое-что упростили, сделали написание более современным. Сейчас, видимо, наступило время, когда надо подумать об упрощении тонкостей, уменьшить число исключений.
С одной стороны, я понимаю, что русский язык надо приблизить к сегодняшней жизни, упростить. А с другой стороны, меня как поборника родного языка коробят некоторые нововведения: докУмент, кофе среднего рода… «Тебе тут звОнят», – говорят, причём на каждом шагу. Искореняй – не искореняй, а из поколения в поколение одно и то же. Это значит, таким путем идёт сейчас развитие русского языка.
Мне повезло, у нас были хорошие учителя по русскому языку. Марк Зиновьевич тоже ориентировал нас на грамотность, за что ему отдельное спасибо.
Именно учитель физики Марк Зиновьевич Давыдов приохотил нас к туризму, научил бережно относиться к природе, оставлять место стоянки или ночёвки в чистом виде, убирая за собой мусор и закрывая дерном кострище. Летом, в июне, Марк Зиновьевич увозил нас куда-нибудь на сборы, всем компасы выдавал, учил нас читать и составлять карту местности, ориентироваться по ней. У нас не было никаких шефов, помощников, нас всему учил Марк Зиновьевич единолично.
Мне памятен областной туристический слёт близ железнодорожной станции Красносельское Ивановского района, это было летом 1967-го. Туда прибыли ребята из нескольких десятков школ Иванова и других городов нашей области. Наша команда тогда хорошо выступила по ориентированию, первого места, конечно, не заняли, но в пятёрку-то лучших вошли. Марк Зиновьевич считал, что это большой успех, потому что наша школа впервые участвовала в таких соревнованиях. Думали, если мы в десятку войдем, это будет хорошо. У нас команда физически довольно слабая была, мы плохо бегали, а остальное – чтение карты, расчёты, азимут – выполняли хорошо. И девчонки у нас не были спортсменками, тоже не выиграли свой старт.
Кроме того, на слёте проводились конкурсы по приготовлению пищи, по оказанию первой медицинской помощи, по установке палаток на время, по топографии, проверяли, правильно ли подготовлен и разведён костер, как убран бивуак после нескольких дней нашей жизни в лесу, нет ли мусора…
Я участвовал в двух конкурсах – в ориентировании и установке палатки. Мы ставили классическую палатку, а там всё зависит от правильной растяжки дна. Однако натянуть хорошо и закрепить веревками полотнища палатки у нас как-то не получалось, всё равно где-то чуток перекашивало, провисало. Тренировались, конечно, но немного, и конкурса этого не выиграли. А кострище у нас было «по науке», проверяющие хвалили, как и походную стряпню наших девчонок. Правда, спортивная составляющая нашего выступления была так себе… Но 5-е место среди 43-х школ области – это было здорово! Конечно, Марк Зиновьевич нам помогал и подсказывал, а главное – привил нам на всю жизнь навыки бережного отношения к природе, к лесу. Срезанный заранее для костра дёрн укладывали на место, предварительно это место полив. И за это ему большое спасибо.
Однако особенным этот слёт был не только поэтому. Много лет спустя, когда у меня появились близкие друзья-студенты с разных факультетов пединститута, мы как-то разговорились о своих школьных годах, и вдруг выяснилось, что почти все они – и юноши, и девушки – в то лето тоже там были, выступали каждый за свою школу. У меня сохранилась фотография с того слёта – на ней кто-то узнал ребят из своей команды, кто-то – учителей из своей школы, а кто-то – того, с кем не был знаком, но кто почему-либо на этом слёте запомнился.
Вот так мы и разминулись тогда, чтобы встретиться через много лет и по-настоящему подружиться – и Лена Алексеева, и Женя Смирнов, и Серёжа Шадрин, и, наконец, девушка, ставшая моей мечтой….
А сейчас подрос наш старший внук, Олег, и, как ни странно, тоже ходит в походы – с ребятами из своей секции скалолазания и своим любимым наставником. Жизнь продолжается!
Глава 8
Завтра, скорей наступай!..
Я жил в Слободке – микрорайоне Пустошь-Бора, состоявшем из пяти параллельных небольших Слободских улиц. Моя была 3-ей, Третьей Слободской, дом 4. А 5-я Слободская заканчивалась четырёхрядной берёзовой рощей, за которой проходила железная дорога Иваново – Ленинград. Сразу за железной дорогой находился небольшой продуктовый магазинчик, получивший у местных жителей имя Железка, а справа от Железки располагался госпиталь ветеранов войны.
Сама железная дорога уходила на Кинешму, имея на станции Строкино ответвление на Ленинград. Но Кинешма для нас была ближе и понятнее: в ту сторону мы часто ездили по грибы обычными зайцами – кто на подножке, кто в вагоне, а кто и на крышах вагонов. В Кинешме был тупик, так как ветка упиралась в Волгу, а моста не было. «Чай, когда-нито построят!» – рассуждали кинешемцы. Но, пока суд да дело, они там сами построили паром и для людей, и для машин. Ведь на другом берегу Волги Ивановская область тогда имела Заволжский, часть Кинешемского и Сокольский районы. К тому же по Волге тогда ходило довольно много речного транспорта, как грузового, так и пассажирского.
Вернусь к Пустошь-Бору. Процентов на восемьдесят он был застроен одноэтажными деревянными домами с разномастными крышами: соломенных крыш уже не было, но были дома, крытые дранкой, толем, черепицей и даже железом. В Пустошь-Боре жили в основном выходцы из окрестных деревень. По деревенским привычкам многие держали коз, овец, свиней, кур, кроликов, домашнюю птицу. Отовсюду слышался зычный крик петухов – с утра до вечера. В садах-огородах преобладали вишни, яблони и груша-дичок. Для овощных грядок во двориках места было маловато, но о кормилице-картошке никто здесь не забывал – в недавно отгремевшую войну она спасала от голода. Тополей и осин здесь почти не было, зато росли клёны, берёзы, ясени, липы, кусты «китайской смородины» и, конечно, повсюду красовалась сирень. Наверное, поэтому, Пустошь-Бор мне всегда казался уютным, как родной дом. Таким он, собственно, и был.
Улицы чаще называли на советский лад, но были и милые сердцу названия: Солнечная, Прохладная, Хвойная…. Кстати, Спортивная улица вела к стадиону «Локомотив», к Интердому и Куваевскому лесу с его мачтовыми соснами и укрывшейся за ними рекой Талкой. Туда мы любили ходить купаться, катя перед собой большие надувные резиновые камеры. Одна такая камера могла удержать на воде до пяти детей!
Северный аэродром был главным для нас «поставщиком» этих камер. Мы с мальчишками любили ходить на аэродромную свалку: там можно было найти много интересного: катушки с медной проволокой, куски плексигласа («самолётное стекло»), различные конденсаторы, индикаторы, сопротивления, разноцветные обрезки проводов. Из этих тонких проводов многие делали оплётки буквально для всего – от ручки ножа до заборных досок. Девчонки оплетали стальные и пластмассовые кольца для волос и ремешки для платьев, а их отцы и дедушки с помощью таких проводков чинили им порванные сандалии, и это заодно было как бы украшение.
Для мальчишек главными трофеями были здесь кусочки магния, иногда довольно большие. Магний – металл достаточно мягкий, удобный для распиливания ножовкой. Из полученного порошка или мелких кусочков можно было устраивать огненные «спецэффекты», что мы и делали под восторженный визг девчонок!
А детей-то тогда в каждой семье было от двух до четырёх-пяти человек. В конце 1-й Слободской жила, например, семья Сивенковых, где детей было аж 12 человек, а глава семьи работал настоящим извозчиком! Он свою лошадь в небольшой конюшне держал, во дворе своего дома, и иногда катал желающих на телеге, а мы орали и визжали от восторга! В общем, скучно нам не бывало. Тем более, вечерами то там, то сям собирались взрослые компании, пили вино и громко пели песни, главными «хитами» из которых были «Вот кто-то с горочки спустился» и «Каким ты был, таким остался…». Компании эти собирались как «по поводу», так и без. Да и нам иногда с этих столов что-нибудь вкусненькое перепадало! Заодно и песни запоминались.
К сожалению, многие в Пустошь-Боре страдали болезнями почек и частой зубной болью, и эта боль в поликлинике №8 лечилась «кардинально» – удалением одного-двух зубов. Врачи говорили: «Не пейте воду из ваших колодцев, в ней железа много, скоро беззубыми останетесь». Позже стали делать скважины, забирая воду с двадцати и даже сорока метров глубины, но большинство обходилось колодцами ещё довольно долго…
Вот так и жила наша Слободка с её солнечными, пушистыми, уютными улицами, какими я их и запомнил на всю жизнь.
Я не видел, чтобы в Пустошь-Боре где-нибудь враждовали и дрались «улица на улицу», как это было в некоторых других местах города, судя по многочисленным рассказам «очевидцев». Вот возле танцплощадок разборки нередко случались, но подобное, говорят, бывало всегда, ещё «до исторического материализма». А в целом город был мирный и спокойный, несмотря на слабую освещённость улиц.
Дом №20\17 на Индустриальной улице я хочу выделить особо. Ведь главным развлечением моего школьного возраста было гуляние в «компаниях», и прежде всего, во дворе этого дома. Банщиковым недавно дали там квартиру, поэтому мы стали называть этот дом «банщиковским».
Большой, но уютный и зелёный двор их нового дома имел квадратную форму. Там была, например, площадка, где мы гоняли в футбол, то есть в мини-футбол, конечно. Играли и в волейбол в кругу, в «картошку», и в городки. Повсюду тогда популярны были массовые уличные игры: в ловички, в чижика, в сыщики-разбойники, в прятки… Вечерние игры были в подъездах – в жмурки или в колечко, например. А можно было поучаствовать и в чём-то менее массовом, выбрав какую-то группу людей, с которыми особенно интересно общаться тебе, и ты интересен им – фильмы до хрипоты обсуждали, тихо пели под гитару и т.д. С мая начинал работать наш кинотеатр-балаган, каких по городу было тогда немало. Вход – 1 рубль (с 1961-го года – 10 копеек). Клуба и общественной бани в Пустошь-Боре не было – ходили в Хуторовскую или в Посадскую баню, где были огромные очереди. Зато там продавали газировку, с сиропом и без.
Другим излюбленным местом моего гуляния была обширная изумрудная лужайка на 1-й Слободской улице перед домом моей тётки – тёти Шуры Октаевой, сестры моего отца. У них с мужем, дядей Ваней, было четверо детей – Галя, Люся, Толик и Таня. Дети из соседних домов любили собираться здесь и играть. В паре десятков метров от этого дома начинался Куваевский лес, а ещё чуть дальше находился Интердом.
К тёте Шуре часто приезжала на весь день её сестра (и моя тётя) – Мария Михайловна Сметанина. Она уже была на пенсии. Имея больное сердце, она много времени проводила в прогулках по Куваевскому лесу. Как она великолепно пела, чисто и сильно! Дама она была представительная, с высшим образованием, и потому её все звали по имени-отчеству – Мария Михайловна, фамилию Сметанина она при замужестве на более звучную – Кременецкая – менять не стала, говорила: «Братья мои, к сожалению, умерли, а дочки – обе Кременецкие, по отцу. А фамилия наша должна жить. Надеюсь, Катеринины сыновья, Володя и Коля, меня поддержат, как-то украсят наш род Сметаниных – ведь в нашей деревне Иванцево, за Северным аэродромом, чуть не полдеревни – Сметанины, а наша семья там была всегда самая певучая!» Из двоих её дочерей – старшей Ларисы и младшей Любы – к тёте Шуре часто приезжала Люба. Она была нашей сверстницей, и гулять с нами ей было интересно и весело, как и нам с ней.
Всё же во дворе у Банщиковых мне гулять казалось немного веселее, да и детей там была тьма-тьмущая! Там я бывал всё чаще и чаще. Как говорил Лёня Банщиков, «здесь и пацаны веселее, и девчонки красивЕе!» Я же с детства дружил с двоюродными братьями и сестрой, потому тоже обосновался по их новому месту жительства, метрах в трёхстах от нашего дома.
Особой моей любовью пользовался Универмаг в этом самом доме, ведь там продавали перочинные ножички в немалом ассортименте. А что такое хороший перочинный ножик для мальчишки – это просто нечто особенное! Он даже ночами мне снился: тут и два лезвия, и шило, и штопор (а что? а вдруг?..), и маленькие ножницы, и отвёртка!
Во дворе, среди вишнёвых деревьев, располагался столик, где мужчины сражались в домино, в основном, «козла забивали», тогда это было повальное увлечение. А в сторонке стояли простые лавочки без спинок, где шла тихая, но не менее азартная игра – в шахматы. (Шашки были почему-то непопулярны, разве что «в Чапаева»). Игроки-шахматисты – одна или две пары – садились верхом на лавочку, раскладывали между собой шахматную доску и погружались в битву. Сначала я только смотрел на доску, ничего не понимая. Потом кто-то из Банщиковых, по-моему, Гера, показал мне, как ходят разные фигуры и даже поиграл со мной немножко. У Банщиковых все четверо детей умели играть в шахматы, их научил отец, дядя Тима.
Ему выдали, как ветерану и инвалиду войны, сначала трёхколёсную, а затем и четырёхколёсную инвалидную коляску-автомобиль с открытым верхом. Иногда он предлагал детям, своим и чужим, прошвырнуться по Пустошь-Бору. Ну, а кто же откажется! Детей набивалось человек десять-двенадцать, восторгу нашему не было предела – визг, хохот, пыль… Правда, тётя Валя ругала мужа за это: а вдруг кто вывалится – греха не оберёшься! Но Тимофей, алтайский казак, только смеялся белозубым ртом: пусть, мол, крепче держатся!
Дядя Тима, самый главный наш шахматный ас, имел большой опыт. Он был самоучкой, не знал никаких теорий, но играл очень изобретательно, придумывал нестандартные ходы, какие-то «левые» выпады. Теперь я стал следить за игрой более осмысленно, старался понять логику их ходов, опять пробовал играть сам с Герой или с другими ребятами. Шахматами тогда увлекались многие – и дети, и взрослые мужчины, простые работяги, и не только в нашем дворе. Я помню, например, что были специальные столы в парке имени Степанова, мы даже ходили туда играть блиц-партии на деньги. Договорился ты, скажем, по рублю за выигрыш – деньги кладёшь под доску, соперник тоже. Кто выигрывал, забирал из-под доски два рубля. Святое дело! Но это было много позже, а тогда я еще только приглядывался, наблюдал.
У Банщиковых же мне дали почитать замечательный «Учебник шахматной игры» Эмануила Ласкера, немецкого математика и шахматиста, в течение 27-ми лет сохранявшего титул чемпиона мира по шахматам. Я не поленился почитать ее, позаниматься по ней, познакомился с теорией дебютов, далее рассматривалась середина игры, и потом шли задачи. Великолепная была книга с иллюстрациями.
Уже учась в институте, я увлекся шахматами более серьёзно, даже ходил в кружок для студентов, где преподавал мастер спорта Н.Овечкин, рекомендовавший этот учебник Ласкера всем кружковцам. Тогда я обратился опять к Банщиковым, но Гера сказал:
– Кто-то его у нас взял и не отдал, заиграл. Не знаю, кто. Не ты?
– Я?! Нет. Я его уже лет пять не видел. Как жалко!
В их семье все играли в шахматы, причем Лида играла посильней, скажем, чем Витька, а Лёня и Гера – примерно на одном уровне, чуть-чуть посильнее сестры, думаю. Там же, во дворе у Банщиковых, я начал играть в шахматы с сильными соперниками, например, с Вовкой Дунаевским со второго этажа, у него было чему поучиться.
В общем, этот двор был для нас, по сути, клубом по интересам: в его большом подвале-бомбоубежище домоуправление установило бильярд и настольный теннис! Была там и небольшая сцена для драмкружка и проведения новогодних ёлок с гостинцами от того же домоуправления. Вечерами тут крутили на патефоне пластинки, и под патефон мы понемногу учились танцевать – девчонки с удовольствием тоже здесь собирались. Никто не стеснялся, чужих-то почти никогда здесь не было, всё было уютно и привычно. Следили за порядком здесь взрослые мужчины – особенно дядя Саша Ребёнков, умелый и добрый человек, который мог быть и строгим. Кстати, с первых тёплых дней мая и всё лето он нас водил в велопоходы на Уводь-строй, а при надобности помогал быстренько починить велосипед. Мы его очень уважали и любили. Некоторые даже не хотели больше ездить в пионерлагеря – здесь и так весело было!
Впоследствии, когда подросли мы сами и наши старшие братья, которые брали проведение походов на себя, мы уже сами могли собраться и уйти в поход на два-три дня, в Красносельское или на тот же Уводь-строй, или на Харинку. Профкомы близлежащих заводов нам материально помогали, снабжая нас пачками какао «Золотой ярлык», сгущённым молоком, банками тушёнки, покупая новые футбольные и волейбольные мячи, гамаки и даже пластиковые ласты для купания. Немудрено, что к нам старались примкнуть и другие девчонки и мальчишки Пустошь-Бора. Приходилось проводить некий не очень строгий отбор: ведь далеко не всех родители отпускали без собственного присмотра, а нам, «старожилам», это совсем не нравилось…
PS: Как ни странно, но в те годы я жил как бы двойной жизнью, до поры – до времени даже не осознавая этого.
Год совместных мучений с гитарой очень сблизил нас с братом и даже сдружил. К тому же Вова доверял мне, отличнику (на 4 года младше его!), проверять свои школьные сочинения, чтобы я исправлял его грамматические ошибки. И тут я с удивлением заметил, что не просто проверяю, но с увлечением читаю его сочинения. Писал он просто здорово!
Теперь брат старался таскать меня с собой повсюду, в том числе и в свою компанию. Мне было с ними интересно: они любили ходить в походы, брали с собой гитару. И там, у костра, выученные песни приобретали для меня какую-то новую, не известную мне жизнь. Но это вечерами. А днём, как и заведено в походах, Вова и вся компания загорали, купались и играли в волейбол…
Надо сказать, что по натуре Вова всегда был большим фантазёром и выдумщиком. Будучи ещё старшеклассником, он придумал и организовал ни много, ни мало – тайное общество! Называлось оно «ОСА» (Общество Семи Апостолов), имело свой Устав, насквозь романтический, состоящий из семи «Заповедей». Помнится только одна из них: «Ненавижу всяческую мертвечину, обожаю всяческую жизнь!» Как вы можете заметить, Маяковского Вова хорошо знал и любил.
В этом обществе мне отводилась скромная роль «писарчука»: я должен был красиво написать эти семь Заповедей для каждого члена «ОСЫ». И внутренне я этим гордился!
Тогда я ещё не понимал, что эта сторона моей жизни плавно переводит меня из детства в юность…
Глава 9
В синем небе я вижу зарницы золотых пионерских костров…
Каждое лето я ездил в пионерские лагеря, начиная с 1-го класса, а после 7-го класса последний раз отдыхал в качестве воспитанника. Мать у меня работала на фабрике имени Крупской, от этого предприятия был один лагерь – это в Малинках, справа от дороги на Родники. Лагерь у нас был маленький, всего два отряда, расположенный на опушке леса, можно сказать, вписан в лес. Там же, но слева от дороги, располагался лагерь от фабрики Балашова, где отдыхала Ира Фёдорова, моя будущая судьба, но тогда я ещё не знал этого. Помнится, мы ходили в тот лагерь, наша сборная по футболу играла с балашовцами. Там отрядов было гораздо больше, и пацаны взрослее, они наших обыгрывали, но и наши ребята были крепкие, оказывали сопротивление-то.
Я тоже в каких-то играх участвовал, не помню, в каких именно, но точно – не в футбол. Я, конечно, хотел бы бегать и гонять мяч, но… Дело в том, что у меня ноги особенно подвержены травмам, любой удар по ноге – и она болит дня три, если не больше, это – следствие ревматизма, папина наследственность. Впоследствии я предпочитал баскетбол или волейбол, где хотя бы по ногам не били, уже хорошо. В волейбол я очень любил играть, но поскольку у меня рост небольшой, предпочитал, играть без сетки, просто в кругу. Была еще игра, которая называлась, кажется, «Картошка»: сначала играют в кругу в волейбол, тот, кто уронил мяч, садится на корточки в центр круга. По тем, кто в центре, можно было лупить мячом, но если кто-то из сидящих поймает твой мяч, то он встает в круг, а ты садишься в середину и получаешь изрядные удары мячом от друзей. Это тоже было любимое занятие, вид волейбола, в общем-то, хотя и без сетки, совсем неспортивная игра, но весёлая. Однако более других игр я предпочитал настольный теннис, это была моя любимая игра и в студенческие годы, да и позже.
А еще мне нравились пионерские песни, они создавали бодрое настроение и не только.
У нас в лагере был вожатый с хорошим музыкальным слухом, студент педагогического института, вот с ним мы пели без всякого сопровождения «Ах, картошка-тошка-тошка, пионеров идеал-ал-ал…», «С утра сидит на озере любитель-рыболов». Мы тогда ходили в поход, пусть недалеко, километра за полтора, разводили там костёр, сидя вокруг него, пели эти песни и чувствовали себя пионерами. И неважно, что потом мы возвращались опять в павильоны, в свои палаты, всё равно в этом ощущалась романтика, мы были причастны к чему-то такому хорошему.
Очень хорошие и красивые песни писала А.Н. Пахмутова на стихи Н.Н. Добронравова, например, о пионерском лагере «Орлёнок»: «На небосклоне привычных квартир пусть загорится звезда Альтаир…» Романтика вошла в нашу жизнь с того момента, когда мы стали пионерами, а вместе с ней – какие-то новые песни, новые мечты. В пионерском лагере мы вставали в строй по отрядам и пели «Взвейтесь кострами, синие ночи…» или «Вот и стали мы на год взрослей…», «На прививку, третий класс!», «Мы шли под грохот канонады…» и другие отличные песни.
Я иногда помогал музыкальному работнику, но выяснилось, что я играю лучше его и подбираю сразу же песни в любой тональности, а он пыкает-мыкает и не те аккорды играет, фальшиво получается. Я кому-то, пионервожатому что ли, сказал об том, что наш баянист неправильно играет. Тогда мне предложили: «Ну, так сыграй ты!». Баянист дал мне свой инструмент, я сыграл несколько песен. «Да, здорово!» – сказали и на следующий год меня пригласили туда «за харчи», то есть просто дали мне бесплатную путёвку – житьё, кормёжка, природа, но и играть на баяне. При подъеме флага я играл пионерский гимн – «Взвейтесь кострами, синие ночи…». Ну, и с самодеятельностью, конечно, занимался, как положено: «Паровоз по рельсам мчится, на пути котёнок спит…» или «У дороги чибис» и тому подобное. Для меня эти детские песни были уже, как семечки. Правда, кто-то пытался петь непростые песни, «Школьные годы», например, это сложная песня, И.О. Дунаевский всё-таки!



